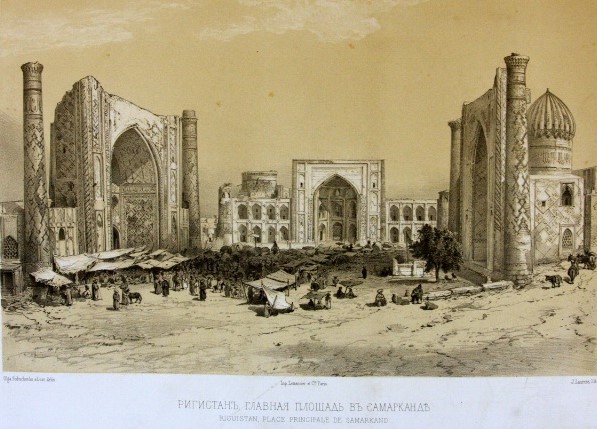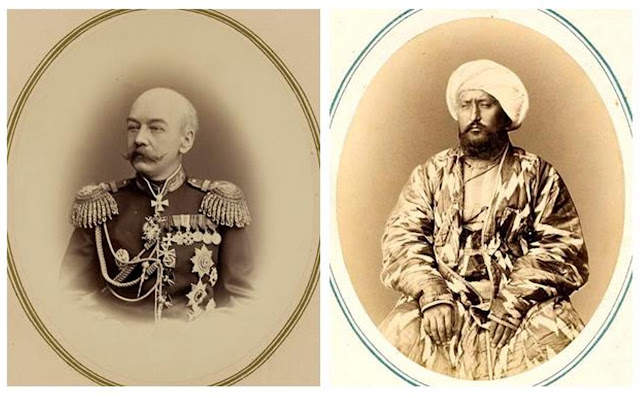Есть во Франции городок Шамони, расположенный у подножия самой высокой вершины Европы, горы Монблан. Там, на площади, стоит памятник русскому путешественнику и исследователю Алексею Павловичу Федченко. На глыбе неотделанного гранита мраморная доска, на которой надпись по-русски: "Ты спишь, но труды твои не будут забыты".

Ему было всего 29 лет, когда он погиб в альпийских горах, за тысячи километров от России, где родился, и от Памира, где осталось его сердце, и куда он хотел, но не смог вернуться.
В 1971 году Шамони посетили альпинисты из Узбекистана. Прибыли они сюда, чтобы поклониться могиле человека, столь много сделавшего для исследования Туркестана. В память об этом событии была установлена памятная доска, на которой выбито: «Алексею Павловичу в память посещения его могилы от альпинистов Узбекистана. Камень доставлен с ледника Федченко (Памир). Август 1971 г.»
Многие, думаю, слышали о леднике Федченко, но мало кто знает, кем был человек, именем которого назван один из крупнейших горных ледников земного шара. Сам Алексей Павлович на леднике этом никогда не был и не знал о его существовании.
В сентябре 1878 году двигаясь по долине реки Сель-су, русский путешественник и учёный Василий Фёдорович Ошанин увидел перед собой огромный валун, преградивший речную долину. «Каким образом река не размыла этого, по-видимому ничтожного, препятствия?» подумал Ошанин. Когда подъехали ближе, увидели на темной поверхности валуна белые блестящие пятна. Что это? Лед? Темный валун, оказался оконечностью ледника.
На следующий день Ошанин сделал попытку подняться туда. Путешественник определил на глаз, что «открытый им ледник не короче пятнадцати-двадцати верст, а по сведениям одного охотника-киргиза, тянется верст на тридцать-сорок».
Поняв, что сделал важное открытие, Ошанин, не колеблясь, назвал ледник именем своего друга. «Я посвятил его (ледник) памяти Алексея Павловича Федченко, — писал Василий Фёдорович. — Я желал этим выразить, хотя в слабой степени, мое глубокое уважение к замечательным трудам моего незабвенного товарища, которому мы обязаны разъяснением стольких темных вопросов в географии и естественной истории Средней Азии. Я желал, чтобы имя его навсегда осталось связано с одним из грандиознейших глетчеров среднеазиатского нагорья, — желал этого потому, что изучение ледниковых явлений особенно занимало Алексея Павловича. Пусть „Федченковский ледник“ и в далеком будущем напоминает путешественникам имя одного из даровитейших и усерднейших исследователей Средней Азии!».
Вот об этом человеке, о его короткой, но яркой жизни и рассказывается в этом очерке.
Часть первая
В Туркестан
Родился Алексей Федченко 7 февраля (19 февраля по новому стилю) 1844 года. А вот место рождения точно неизвестно, - не то в Иркутске, не то в Барнауле. Но детство и отрочество будущего путешественника прошло в Иркутске. Отец его владел золотоносным прииском, однако предпринимателем оказался неудачным, разорился и умер, когда юноша заканчивал иркутскую гимназию.
Оставшись вдовой мать Алексея, распродала вещи и переехала в Москву, чтобы сын смог продолжить обучение там.
В 16 лет, Федченко поступает в Московский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Мечтая стать в будущем зоологом, он тем не менее серьёзно занимается и смежными науками: ботаникой, геологией и антропологией. В этом он был похож на своего близкого товарища и однокурсника Василия Ошанина.
В сентябре 1878 году двигаясь по долине реки Сель-су, русский путешественник и учёный Василий Фёдорович Ошанин увидел перед собой огромный валун, преградивший речную долину. «Каким образом река не размыла этого, по-видимому ничтожного, препятствия?» подумал Ошанин. Когда подъехали ближе, увидели на темной поверхности валуна белые блестящие пятна. Что это? Лед? Темный валун, оказался оконечностью ледника.
На следующий день Ошанин сделал попытку подняться туда. Путешественник определил на глаз, что «открытый им ледник не короче пятнадцати-двадцати верст, а по сведениям одного охотника-киргиза, тянется верст на тридцать-сорок».
Поняв, что сделал важное открытие, Ошанин, не колеблясь, назвал ледник именем своего друга. «Я посвятил его (ледник) памяти Алексея Павловича Федченко, — писал Василий Фёдорович. — Я желал этим выразить, хотя в слабой степени, мое глубокое уважение к замечательным трудам моего незабвенного товарища, которому мы обязаны разъяснением стольких темных вопросов в географии и естественной истории Средней Азии. Я желал, чтобы имя его навсегда осталось связано с одним из грандиознейших глетчеров среднеазиатского нагорья, — желал этого потому, что изучение ледниковых явлений особенно занимало Алексея Павловича. Пусть „Федченковский ледник“ и в далеком будущем напоминает путешественникам имя одного из даровитейших и усерднейших исследователей Средней Азии!».
Вот об этом человеке, о его короткой, но яркой жизни и рассказывается в этом очерке.
Часть первая
В Туркестан
Родился Алексей Федченко 7 февраля (19 февраля по новому стилю) 1844 года. А вот место рождения точно неизвестно, - не то в Иркутске, не то в Барнауле. Но детство и отрочество будущего путешественника прошло в Иркутске. Отец его владел золотоносным прииском, однако предпринимателем оказался неудачным, разорился и умер, когда юноша заканчивал иркутскую гимназию.
Оставшись вдовой мать Алексея, распродала вещи и переехала в Москву, чтобы сын смог продолжить обучение там.
В 16 лет, Федченко поступает в Московский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Мечтая стать в будущем зоологом, он тем не менее серьёзно занимается и смежными науками: ботаникой, геологией и антропологией. В этом он был похож на своего близкого товарища и однокурсника Василия Ошанина.
А.П. Федченко (в центре), с товарищами по университету. Слева стоит В.Ф. Ошанин
Наукой Федченко начинает заниматься ещё студентом, совершает экскурсии в Подмосковье, где собирает ценнейший гербарий Московcкой губернии, участвует в экспедиции на солёные озёра Эльтон и Баскунчак в Царицынской губернии.
Окончив университет со званием кандидата Алексей остаётся на кафедре преподавателем.
Но не только наукой живёт молодой учёный и педагог. Познакомившись с дочерью своего коллеги, профессора Московского университета Александра Осиповича Армфельдта, Ольгой, Алексей без памяти влюбляется.
Выпускница Николаевского института, отвечает взаимностью, и, 2 июля 1867 года, меняет свою шведскую фамилию на фамилию мужа. Ольга Александровна становится не просто женой, она сопровождает супруга во всех путешествиях, разделяя с ним тяготы и неудобства кочевой жизни, а после гибели Алексея Павловича становится достойным продолжателем его дела.
О.А. Федченко (Армфельдт)
В свои 24 года - Алексей уже зрелый и достаточно опытный исследователь. Перед ним встаёт вопрос чем заниматься, куда направить свои познания и кипучую энергию.
И цель была найдена. В те годы перед русскими учеными открывался новый, неизведанный, а потому манящий край – огромные территории Средней Азии.
В 1868 году Московское общество любителей есествознания, по инициативе туркестанского генерал-губернатора Фон Кауфмана, снаряжает научную экспедицию для исследования природы и населения Туркестана. Алексею Павловичу, несмотря на молодость уже известному в научных кругах, было поручено её возглавить.
Кроме супругов Федченко в экспедицию входил и препаратор Иван Иванович Скорняков, уже известный моим читателям по рассказу о путешествиях Алексея Николаевича Северцова.
Поздней осенью 1868 года экспедиция выехала из Москвы. Время было выбрано не совсем удачно, началась распутица, а затем и холода. Приходилось менять колёса на сани, а багажа было много, поскольку всё оборудование пришлось везти с собой. За укреплением Кара-Булак начались пески Кара-Кумов, и лошадей пришлось сменить на верблюдов. Наконец, спустя почти два месяца, показался Ташкент, поразивший путешественников морем зелени, окружавшим город.
"14 декабря, после 53-дневного, почти безостановочного путешествия, мы въехали в Ташкент, — писал Федченко. — Но здесь еще не кончался наш путь. По полученным мною инструкциям я должен был отправиться в Самарканд и начать свои исследования с Зеравшанской долины".
Именно, Зерафшанский округ, лишь несколько месяцев назад включённый в состав Российской империи, наметил для первоочередных исследований туркестанский генерал-губернатор.
Через две недели, отдохнув и запасшись провизией, Федченко и его спутники выехали в Самарканд. Миновав Джизак, путешественники были поражены открывшимся перед ними величественным ущельем Джелануты разделённым небольшой быстрой речкой Санзар. Горные стены ущелья словно дышали древней историей. Здесь в достопамятные времена проходили воины Александра Македонского и Тамерлана, возвращался из похода в 1425 году Мирзо Улугбек.
В этом месте в 1571 году Абдулла-Хан II ибн Искандер Шейбанид одержал победу над врагами, о чём путникам рассказала табличка на персидском языке, прибитая к скале: "Да ведают проходящие пустыни и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища калифатства, тени Всевышнего великого хакана Абдулла-хана, сына Искандер-хана, в 30 тысяч человек боевого народа и отрядом Дервиш-хана и Баба-хана и прочих сыновей. Сказанного отряда (было) всего родичей султанов до 50 тысяч человек и служащих людей до 400 тысяч из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешта-Кипчака. Отряд обладателя счастливого сочетания звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от людей, убитых в сражении и в плену, в течение одного месяца в реке Джизакской (речка Джелон-ута или Санзар) на поверхности воды текла кровь. Да будет это известно!"
Ворота Тамерлана, в ущелье Джелануты. Картина В. Верещагина
3 января 1869 года, на шестой день пути путешественники въехали в ворота Самарканда.
Здесь участники экспедиции провели всю зиму и начало весны, с удовольствием знакомясь с историческими памятниками и бытом древнего города, а 24 апреля отправились в дальнейший путь. Территории, которые предстояло посетить исследователям, были абсолютно неизведанными, поэтому начальник Зерафшанского округа генерал Александр Константинович Абрамов прикомандировал к отряду Федченко поручика Куцея и топографа Новоселова. Для охраны экспедиции была выделена сотня казаков с артиллерией под командованием штаб-ротмистра Михаила Дмитриевича Скобелева, будущего “Белого генерала”, героя русско-турецкой войны.
Добравшись до города Каттакургана обосновали там базу, своеобразный отправной пункт, откуда совершали экскурсии в окрестные горы. Первый маршрут был в сторону гор Актау (часть Нуратинского хребта). В небольшом селении Пейшамбе путешественникам был оказан на удивление тёплый и радушный прием.
9 мая экспедиция двинулась на юго-запад и через три дня достигла кишлака Джам. “Международным рынком” назвал его Федченко, поскольку сюда съезжались торговцы из бухарских, шахрисабзских и русских областей. Здесь остановились на ночь, проведя её в мечети в большом тенистом саду, где по преданию останавливался бухарский эмир.
На следующий день, крутыми тропами, через Аксайское ущелье поднялись на гребень, откуда Федченко удалось обозреть Шахрисабзскую долину и разглядеть две зеленеющие внизу массы садов – селения Шахрисабз и Китаб. Но путь туда для путешественников был закрыт, это были бухарские владения. Через Агалыкское ущелье вышли к Ургуту, а затем двинулись по долине Зерафшана к Пенджикенту. По дороге путешественников встретил мулла Пенджикента Карим Ата. Жители Пенджикента прослышав, что русский ученый более всего интересуется дикими животными края, поднесли Федченко в подарок горного барана, которого добыли лучшие охотники. Алексей Павлович был весьма обрадован таким подарком и даже попросил достать еще один экземпляр. Просьба была выполнена и через месяц в Самарканд был доставлен великолепный экземпляр животного.
Из Пенджикента путешественники, проехав вверх по долине Зеравшана до кишлака Даштыказы, правым берегом реки вернулись в Самарканд.
На следующий день, крутыми тропами, через Аксайское ущелье поднялись на гребень, откуда Федченко удалось обозреть Шахрисабзскую долину и разглядеть две зеленеющие внизу массы садов – селения Шахрисабз и Китаб. Но путь туда для путешественников был закрыт, это были бухарские владения. Через Агалыкское ущелье вышли к Ургуту, а затем двинулись по долине Зерафшана к Пенджикенту. По дороге путешественников встретил мулла Пенджикента Карим Ата. Жители Пенджикента прослышав, что русский ученый более всего интересуется дикими животными края, поднесли Федченко в подарок горного барана, которого добыли лучшие охотники. Алексей Павлович был весьма обрадован таким подарком и даже попросил достать еще один экземпляр. Просьба была выполнена и через месяц в Самарканд был доставлен великолепный экземпляр животного.
Из Пенджикента путешественники, проехав вверх по долине Зеравшана до кишлака Даштыказы, правым берегом реки вернулись в Самарканд.
Горы Аксай Тау к югу от Самарканда. Рисунок О.А.Федченко
Этим завершился первый этап научных исследований Федченко в Туркестанском крае.
Московский университет за результаты этой экспедиции присудил Алексею Павловичу Федченко премию Щуровского — дорогой микроскоп. Ольга Федченко была награждена Обществом любителей естествознания золотой медалью за туркестанский гербарий и альбом рисунков. Препаратору Скорнякову была присуждена серебряная медаль, юнкеру Вельцену, сопровождавшему Федченко в поездке по долине в качестве коллектора, — бронзовая.
Но супруги недолго почивали на лаврах. Туркестан вновь манил к себе.
Часть 2. И вновь Туркестан
Зиму супруги провели в Москве, занимаясь обработкой собранных материалов. За это время Алексей Павлович написал несколько научных статей. В самый разгар работы в Москву пришло известие – из Самарканда, к истокам Зеравшана, должен выступить военный отряд под командованием генерала Абрамова. Федченко такую возможность упустить не мог. Спешно подготовившись, он, вместе с женой выехал в Ташкент. Как ни торопились, но прибыв на место в начале мая, супруги с огорчением узнали, что отряд ещё 25 апреля отправился в поход.
Не теряя ни минуты, путешественники пустились вдогонку. Решили срезать путь и двинулись верхом к Туркестанскому хребту, чтобы через перевал Оббурдон спуститься к селению того же названия, где должен был в это время находиться экспедиционный отряд Абрамова.
Дорога оказалась тяжёлой, лошади спотыкались и скользили на узкой тропе. Двух навьюченных лошадей потеряли, - не устояв они скатились вниз по обледенелому склону. Люди, по счастью, остались невредимы и второго июня исследователи уже въезжали в село, где расположился на отдых русский отряд.
С огромным вниманием выслушал Алексей Павлович рассказ Абрамова, о том, что уже сделано за это время. А сделано было немало, в частности полковник Алексей Романович Деннет (будущий начальник военной миссии в Персии и генеральный консул в Турции) прошёл вверх по леднику и поднялся на перевал Матч-Ходжент, а топограф Август Иванович Скасси нанес на карту все верхнее течение реки Зеравшан и точные контуры двух хребтов, "обнимающих" реку, — Туркестанского и Зеравшанского.
Через три дня экспедиция двинулась вниз по реке Матчи (Верхнего Зеравшана) и затем через левый приток Зеравшана – Фандарью, вышли к озеру неописуемой красоты. Это был Искандеркуль.
Считается, что Искандеркуль, то есть озеро Искандера названо в честь великого полководца древности Александра Македонского, которого на местном языке называли Искандер Зулькарнайн, то есть двурогий, из-за рогатого шлем. Но, думаю, это не совсем так. Озеро здесь было ещё до прихода Александра Великого и называлось оно Искан-дара, что дословно звучало как, высокая вода или озеро высокой воды, проще говоря, высокогорное озеро. Но после того как в этих краях побывал Искандер Зулькарнайн, произошло смешение названий и Искан-дара со временем превратилось в Искандеркуль.
Долго стояли путешественники, любуясь величественной картиной, открывшейся перед ними. Здесь же, от местных жителей они узнали и записали легенду о том, как возникло это чудо природы.
Александр Македонский, захватив Бактрию и Согд, встретил ожесточённое сопротивление, которое возглавил согдиец Спитамен. Однажды отряды Спитамена окружили македонский гарнизон в столице Согда Мараканде (античное название Самарканда) и Александр Македонский отправил на помощь своих военачальников с войсками. И там прославленные полководцы Менедем, Каран и Андромах, не знавшие до этого неудач, потерпели сокрушительное поражение от Спитамена. Произошло оно неподалёку от Самарканда, и в истории известна как, как Битва у Политимета (так в древности называлась река Зеравшан).
Это была первая и единственная победа над войсками Александра Македонского за всю историю его походов. После этого Двурогому пришлось три года подавлять восстания в Согдиане и Бактрии. Только женитьба на местной девушке Роксане позволила привлечь на свою сторону местную элиту. Но, вернусь к легенде, Александр решил скрыть историю этого поражения и пригрозил прибывшим с места сражения немногочисленным выжившим, казнью за распространение вести о случившемся. Сам же, во главе отряда из отборных воинов, пустился на поиски Спитамена. В результате этой погони, Александр проник в долину, где ныне находится озеро Искандеркуль. Здесь находился то ли укреплённый город, то ли крепость, в которой не открыли ворота и отказались сотрудничать, разъярённый Александр, не желая тратить время на осаду, приказал воинам сделать насыпную плотину, и затопить крепость вместе с непокорными жителями. Через несколько дней вода поднялась, и образовалось большое озеро, которое и поглотило крепость с его защитниками. Предводитель восставших, однако, так и не был пойман. Тогда Александр отправил согдийцам ультиматум, - если они не сдадут ему беглеца, то он разрушит плотину и волна смоет все селения, находящиеся ниже по течению. Испугавшись старейшины выдали местонахождение беглеца. Воины Александра окружили его отряд, но всё же, тяжело раненому Спитамену с горсткой воинов удалось бежать в безлюдное ущелье Машкеват. Там их и настигли преследователи. Отступать дальше было некуда и Спитамен с оставшимися людьми забаррикадировались в неприступной пещере, где все и погибли со временем от голода и ран, но в плен не сдались. И до сих пор высохший труп святого Ходжи Исхока Вали в той же пещере, местные жители считают Спитаменом. Думаю, многие читали исторический роман нашего земляка, замечательного писателя Явдата Ильясова “Согдиана”, в котором рассказывается об этих событиях.
Федченко представилась возможность от берегов озера подняться на перевал. Здесь он собрал богатейшую коллекцию высокогорных растений.
Досыта налюбовавшись дивными красотами окрестности Искандеркуля, путешественники продолжили путь. Через столетие Юрий Визбор напишет песню об этих сказочных местах:
Я сердце оставил в Фанских горах,
Теперь бессердечный хожу по равнинам,
И в тихих беседах, и в шумных пирах
Я молча мечтаю о синих вершинах.
Повернули в долину Искандер-Дарьи вытекающей из озера. Дойдя до селения Ягнобе, путешественники встретились с жителями говорящими не на таджикском, а на каком-то особом, непонятном языке. Трех ягнобцев, с разрешения Александра Константиновича Абрамова, лингвист Кун пригласил с собой в Самарканд. Там он записал ряд ягнобских слов и все то, что они смогли поведать о происхождении ягнобцев - потомков древних согдийцев. Как потом выяснилось ближайшим родственником языка ягнобцев является осетинский. Ещё одна историческая загадка.
22 июня экспедиция отправилась в обратный путь. Хотели возвращаться в Самарканд другой дорогой, но планы нарушила река – уровень воды поднялся и тропа оказалась затопленной. Пришлось идти прежней дорогой — через три перевала.
25 июня дошли до Кули-Калонских озер. Враждебно настроенные кштутцы (жители селений, расположенных на реке Кштут), воспользовавшись тем, что отряд Абрамова вошел в природную "западню», - узкую котловину, решили напасть на него. Произошло короткое, но кровопролитное сражение. Получив жёсткий отпор нападавшие, потеряв с десяток убитых, разбежались. Путь к Пенджикенту был открыт. Об этом эпизоде в отчете Федченко имеется лишь одна короткая фраза: "Отряду пришлось силой пролагать себе путь из этой котловины (загроможденной огромными каменьями, между которыми рос довольно густой можжевеловый лес), так как кштутцы заняли теснину, по которой идет дорожка".
Ольга Федченко во время боя ухаживала за ранеными, делала перевязки, проявив себя как мужественная и хладнокровная женщина, настоящая жена путешественника и исследователя неизведанных земель.
В Пенджикенте Федченко задержался, пытаясь найти в близлежащих горах места, где растет сумбул (мускусный корень). Однако сделать этого не удалось. Сражение в котловине вызвало волнение жителей соседнего Магианского бекства. Оставаться было опасно. Однако уже по возвращении в Самарканд, Федченко получил от знакомого по первому путешествию педжикентского муллы Карима, пятьдесят корней сумбула.
Результатом похода к истокам Зерафшана стало существенное пополнение зоологической и ботанической коллекций. Было собрано более 500 видов насекомых, неизвестных науке, и более 400 видов растений.
30 июня 1870 года супруги Федченко вместе с отрядом прибыли в Самарканд, где задержались ненадолго, продолжая изучать этот древний город, а затем переехали в Ташкент и занялись приведением в порядок собранных в походе материалов.
Рис. Ольги Федченко
Осень и зиму Федченко с женой проводят в Ташкенте, а в конце апреля 1871 года отправляются в Кызыл -Кум. По левому берегу Сыр-Дарьи, они проезжают через Чардарьинскую степь, а затем углубляются в глубь песков, на запад, к колодцу Дюсебай.
В Кызыл-Кумах Алексей Павлович открыл неизвестные до того невысокие горы — точнее, холмы — Карак.
На берегах Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, Федченко изучает рыб, населяющих эти реки. Здесь он открывает вид доселе неизвестной науке, - лопатонос (каменный осётр). В латинское название рыбы навсегда вошла фамилия первооткрывателя, - Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi. Рыба эта по строению является древнейшим животным и встречается, кроме Средней Азии, только в Северной Америке.
Сырдарьинский лопатонос
К сожалению, лопатонос, по-видимому, исчез из рек Средней Азии. Последний раз его вылавливали в далёком уже 1971 году.
20 мая Федченко возвращается в Ташкент, пишет очерк о поездке в Кызылкум и начинает готовится к следующему путешествию, самому главному в своей жизни. Впереди его ждал Памир, путь к которому лежал через Кокандское ханство.
Часть 3. В Коканд
Ранним июньским утром 1871 года из Ташкента, в сопровождении восьми вооружённых всадников, выехало несколько до верха нагруженных повозок. В арьергарде пылили два почтовых тарантаса – в одном из них сидели Алексей Федченко и его молодая жена.
Алексей оглянулся назад, на скрывшийся из глаз Ташкент и стал вспоминать, сколько хлопот и волнений доставили ему приготовления к этому долгожданному путешествию.
Кокандское ханство, куда направлялись путешественники, занимало в то время довольно значительную часть Туркестана и часть эта оставалась почти совершенно неисследованной. Заполнить этот пробел, как можно полнее ознакомиться с природой этой страны, собрать экземпляры представителей её флоры и фауны, изучить быт и характер жителей ханства – такова была задача экспедиции Федченко.
Неоценимую помощь путешественникам оказал туркестанский генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман, а финансировало экспедицию Императорское общество любителей естествознания.
Восток, как известно, дело тонкое, и кроме продовольствия и необходимого оборудования необходимо было запастись подарками для различных должностных лиц Коканда, дабы никаких препятствий исследователям не возникло. Поскольку большими средствами экспедиция не располагала, то решено было самому хану подарков не подносить – на дорогие не хватало денег, а дешёвые впечатления бы не произвели. Запаслись презентами только для различных мелких начальников, ибо как гласит русская поговорка: “Жалует царь, да не жалует псарь”. А чтобы Ольга Федченко смогла поближе ознакомиться с бытом женщин Коканда, генерал-губернатором была выделена дополнительная сумма на приобретение женских украшений и безделушек.
И, конечно, без рекомендательного письма ехать было совершенно невозможно, и от генерал-губернатора Федченко получил письменное послание к хану Худояру, правителю Коканда. В нём говорилось:
«Высокостепенный хан!
Мир и искреннее пожелание Вашему Высокостепенству всякого благополучия.
Кроме желания приветствовать Вас, я обращаюсь к Вам по делу, заключающему в себе всеобщий интерес.
Неоднократно бывшие в мудро управляемых Вами землях русские люди, всегда с особенной похвалой рассказывают о Вашем ласковом приеме, добром содействии и помощи, которые вы оказывали им во время их путешествий.
Вполне уверенный, что Ваше Высокостепенство, как добрый сосед, и теперь не откажет мне в своем высоком внимании к благому делу, я отправляю к вам состоящего при мне ученого человека г. Федченко, цель путешествия которого самая мирная и полезная: он изучает жизнь и характер всех тварей и растений, созданных всемогущим Богом, и пользу, которую они приносят людям. При г. Федченко, для помощи в его учёных работах, безотлучно находятся: его жена, один помощник, слуга и восемь джигитов.
Надеясь на позволение ваше, я поручил г. Федченко исследовать следующие места:
1) из Коканда направиться в Исфару и из нее к Зеравшанскому леднику через Ворух;
2) Вадиль и Уч-Курган и оттуда на перевалы в Каратегин;
3) Ош и находящиеся к югу от него горы в пределах кокандских владений;
4) перевал Терек-Даван, а затем перейти в долину Арпы через какой-нибудь перевал.
Я вполне рассчитываю на Ваш ласковый прием г. Федченко и благосклонное сочувствие его труду, тем более что результаты его научных исследований, для которых он отправляется, проливая свет знания и увеличивая благоденствие человека, составляют драгоценное достояние всех народов. Молясь за здоровье Вашего Высокостепенства и преуспеяние Вашего народа, прошу твёрдо верить моей неизменной к Вам дружбе».
Туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант К.П. Фон Кауфман.
Алексей оглянулся назад, на скрывшийся из глаз Ташкент и стал вспоминать, сколько хлопот и волнений доставили ему приготовления к этому долгожданному путешествию.
Кокандское ханство, куда направлялись путешественники, занимало в то время довольно значительную часть Туркестана и часть эта оставалась почти совершенно неисследованной. Заполнить этот пробел, как можно полнее ознакомиться с природой этой страны, собрать экземпляры представителей её флоры и фауны, изучить быт и характер жителей ханства – такова была задача экспедиции Федченко.
Неоценимую помощь путешественникам оказал туркестанский генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман, а финансировало экспедицию Императорское общество любителей естествознания.
Восток, как известно, дело тонкое, и кроме продовольствия и необходимого оборудования необходимо было запастись подарками для различных должностных лиц Коканда, дабы никаких препятствий исследователям не возникло. Поскольку большими средствами экспедиция не располагала, то решено было самому хану подарков не подносить – на дорогие не хватало денег, а дешёвые впечатления бы не произвели. Запаслись презентами только для различных мелких начальников, ибо как гласит русская поговорка: “Жалует царь, да не жалует псарь”. А чтобы Ольга Федченко смогла поближе ознакомиться с бытом женщин Коканда, генерал-губернатором была выделена дополнительная сумма на приобретение женских украшений и безделушек.
И, конечно, без рекомендательного письма ехать было совершенно невозможно, и от генерал-губернатора Федченко получил письменное послание к хану Худояру, правителю Коканда. В нём говорилось:
«Высокостепенный хан!
Мир и искреннее пожелание Вашему Высокостепенству всякого благополучия.
Кроме желания приветствовать Вас, я обращаюсь к Вам по делу, заключающему в себе всеобщий интерес.
Неоднократно бывшие в мудро управляемых Вами землях русские люди, всегда с особенной похвалой рассказывают о Вашем ласковом приеме, добром содействии и помощи, которые вы оказывали им во время их путешествий.
Вполне уверенный, что Ваше Высокостепенство, как добрый сосед, и теперь не откажет мне в своем высоком внимании к благому делу, я отправляю к вам состоящего при мне ученого человека г. Федченко, цель путешествия которого самая мирная и полезная: он изучает жизнь и характер всех тварей и растений, созданных всемогущим Богом, и пользу, которую они приносят людям. При г. Федченко, для помощи в его учёных работах, безотлучно находятся: его жена, один помощник, слуга и восемь джигитов.
Надеясь на позволение ваше, я поручил г. Федченко исследовать следующие места:
1) из Коканда направиться в Исфару и из нее к Зеравшанскому леднику через Ворух;
2) Вадиль и Уч-Курган и оттуда на перевалы в Каратегин;
3) Ош и находящиеся к югу от него горы в пределах кокандских владений;
4) перевал Терек-Даван, а затем перейти в долину Арпы через какой-нибудь перевал.
Я вполне рассчитываю на Ваш ласковый прием г. Федченко и благосклонное сочувствие его труду, тем более что результаты его научных исследований, для которых он отправляется, проливая свет знания и увеличивая благоденствие человека, составляют драгоценное достояние всех народов. Молясь за здоровье Вашего Высокостепенства и преуспеяние Вашего народа, прошу твёрдо верить моей неизменной к Вам дружбе».
Туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант К.П. Фон Кауфман.
Константин Петрович фон Кауфман и Магомет Сеид Худояр Хан
Кроме этого письма, везли ещё послание от ханского уполномоченного в Ташкенте, проще говоря, посла, к кокандскому мехтеру, - главному чиновнику, состоящему при хане, что-то вроде премьер-министра.
Отвлекусь немного, чтобы рассказать о политической ситуации сложившейся в то время в Коканде.
Худояр хан, надо сказать, своей властью был обязан русскому оружию. С давних пор в Коканде существовали две партии, два антагониста – партия кочевников и партия оседлых.
Совершенно понятно, что каждая из этих политических сил желала иметь своего ставленника на троне. Худояр хан, принадлежал к осёдлым. Власть он захватил благодаря тому, что кочевники в результате военных действий с Российской империей потеряли былое влияние, ибо понесли не только людские потери, но лишились обширных территорий и таких укреплённых оазисов как Чимкент, Ташкент и Ходжент. Ко времени путешествия Федченко в Кокандское ханство там, благодаря Худояр хану воцарилось относительное спокойствие, лишь изредка нарушаемое мелкими смутами.
Но вернёмся к нашим путешественникам. Поклажи было много: путевые палатки, различная походная утварь, ящики для коллекций растений и насекомых. Всё это нужно было везти на арбах, а по горной местности, на вьючных лошадях.
Проблема была и с наличными деньгами. Дело в том, что бумажные банкноты в то время принимали весьма неохотно, - причём значительно ниже номинала – даже в столице Кокандского ханства, а уж в горах и говорить нечего, - вообще не брали. Пришлось все бумажные деньги разменять на серебряные монеты, так называемые «коканы», каждая стоимостью в двадцать копеек. Они представляли собой небольшие серебряные кружочки, на которых на одной стороне написано было имя кокандского правителя — «Мохаммед Худояр Сеид Хан», а на другой — «Выбито в Коканде Прекрасном» («Зураб Хуканд Латив»). Получилось три мешка монет, по пуду в каждом.

Кокандские серебряные монеты (коканы) 19-го века
От Ташкента в столицу Кокандского ханства можно было попасть двумя путями. Одна, через Ходжент, другая через перевал Кендырь. Федченко выбрал первый вариант, и путешественники двинулись к Ходженту.
Первое препятствие встретилось уже в 8 верстах от Ташкента. Перед путниками мчались быстрые воды реки Чирчик. Никаких мостов тогда не существовало и переправа через эту водную преграду представляло собой немалую трудность, к тому же и небезопасную. Вот как описал это сам Федченко.
“Для непривычного человека, это чистое бедствие. Все вещи из тарантаса перекладываются на арбу, а если вода высока, то на высокую и без того площадку арбы кладут ещё решётку. Путешественники помещаются поверх груды ящиков и другой поклажи, и их приглашают держаться за верёвки, которыми привязана кладь, чтобы не упасть, если закружится голова при взгляде на быстро несущиеся воды. Чтобы течением не опрокинуло этот своеобразный экипаж его поддерживают с помощью веревок идущие выше по реке туземцы, которые обыкновенно являются на подмогу из ближайшей деревни”.
Ну, а насколько была опасна такая переправа, можно узнать из дальнейшего рассказа Алексея Павловича:
“Вода бурлит и с шумом разбивается о саженные колёса арбы. Но вот арба сильно наклоняется вперёд и несколько набок значит, съезжают вглубь. Вода доходит уже до ступиц, плещет через площадку, Вскоре опять мельче; даже попалось осохшее место. Вдруг арба погружается так, что вода несётся через площадку, под решёткою, от лошади виднеется только голова и хвост. Жутко путешественнику. Легко вздохнёт он только тогда, когда арба начнёт подниматься на противоположный берег”.
А сколько таких переправ будет впереди.
Это сейчас от Ташкента до Ходжента можно доехать за несколько часов по асфальтированному шоссе. Правда одна серьёзная преграда всё же существует – пограничный пункт, разделяющий два суверенных государства. И какая из них для путника трудней, сказать сложно.
На следующий день подошли к селению Карамазар – через восемьдесят лет на этом месте появится город металлургов Алмалык. Показались горы, пока безлесые, не очень высокие - передовой отряд тех вершин, за которыми начинались владения Худояр-хана.
На почтовой станции пообедали, сменили лошадей и вновь в дорогу.
Свежие лошади бодро пошли на подъём, и через несколько часов перед путешественниками открылась дивная панорама. Внизу величественно катила свои воды Сыр-Дарья. Сразу за рекой - зеленое море садов, за ними узкая полоска степи, над которой величественно возвышались, сверкающие белоснежными шапками, горные хребты.
Досыта налюбовавшись величественной картиной стали спускаться и через некоторое время выехали к берегу.
Здесь новая остановка. Моста через реку не было, переправлялись на пароме, который представлял собой лодку, с укреплённым сверху настилом. Передвигался паром с помощью длинных шестов, которыми отталкивались от дна.
- Отчего вы не пользуетесь веслами? – поинтересовался Федченко.
- Были когда-то весла, да поломались, — отвечали невозмутимые перевозчики.
Восточный менталитет с тех пор не изменился.
Утопающий в зелени и опоясанный крепостной стеной, Ходжент произвёл на путешественников приятное впечатление. По преданию город основал Александр Македонский. Вот что пишет об этом древнеримский историк Курций Квинт, биограф великого полководца:
“Александр возвратился к реке Яксарту (так в древности называли Сыр-Дарью, примеч. В.Ф.) и сколько места под стан занято было, повелел обнести стеною. Означенное дело происходило с такой поспешностью, что на 17-й день от заложения стен и дома построены были. Воины друг перед другом рвались, чтобы свой урок, который каждому был дан закончить и показать прежде”.
Ходжент. Вид со стороны Сыр-Дарьи. С рисунка В. Верещагина, 1868г.
Город назвали Александрия Эсхата, то есть Дальняя Александрия. С тех пор, подобно другим среднеазиатским городам, Ходжент не раз подвергался испытаниям. В VIII веке его захватили арабы. В 1219—1220 годах город оказал ожесточённое сопротивление войскам Чингисхана, и был разрушен. Но вновь и вновь, подобно птице Феникс возрождался из пепла, разрастаясь и расцветая. Находясь на перекрестке торговых путей Востока, на Великом шёлковом пути, Ходжент был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Мавераннахра. Менялись и названия – Александрия Эсхата, Ходжент, Ленинабад. Ныне это Худжанд в составе Республики Таджикистан.
Приезд необычных путников вызвал в городе немало слухов.
— Тюря приехал! Большой тюря! – Слышалось в чайханах и на базарах.
“Тюрей” – господином - местные жители называли русских офицеров и чиновников, и появление столь представительных путешественников немало взволновало горожан.
Дело в том, что статус города, находящегося на самой границе с Кокандским ханством, был неясен. Русские заняли Ходжент, но не спешили присоединить территорию Ходжентского бекства. Посему жители находились как бы в подвешенном состоянии.
И вот по городу пошли толки, что новый «тюря» приехал именно для уточнения границ. К дому, где остановился Федченко, тотчас потянулись местные чиновники.
Федченко поспешил, однако, рассеять их неверные догадки, рассказав о настоящей цели своего путешествия.
В Ходженте решили не задерживаться. Здесь уже побывали исследователи, а наш пытливый путешественник спешил дальше, в неизведанные части страны.
В Ходженте решили не задерживаться. Здесь уже побывали исследователи, а наш пытливый путешественник спешил дальше, в неизведанные части страны.
Часть 4. В Коканде
Ещё до выезда из Ташкента, до путешественников дошла весть о восстании каратегинских киргизов против кокандской власти. Восстание было подавлено, но волнения ещё не улеглись. В Ходженте Федченко услышал рассказ о казни последнего из 12-ти зачинщиков смуты, казни совершённой с особой жестокостью. Бедняге последовательно отрезали нос, уши, руки и наконец, голову.Рассказом этим пытались, по-видимому, запугать Алексея и отговорить от дальнейшего путешествия, но он остался непоколебим.
Груженые арбы были высланы вперёд, а супруги Федченко, без особого сожаления, расстались с тарантасом и пересели в сёдла. Дальнейший путь решили продолжить верхом.
Груженые арбы были высланы вперёд, а супруги Федченко, без особого сожаления, расстались с тарантасом и пересели в сёдла. Дальнейший путь решили продолжить верхом.
Походный сундук Алексея Федченко
К конвою добавились ещё четверо казаков. Не столько для безопасности, сколько для придания экспедиции более важного вида. На востоке чем значительнее свита, тем более почтения вызывает сопровождаемое лицо. Ведь от того как встретят и примут во дворе правителя зависел успех путешествия.
В первый день далеко продвинуться не удалось, едва отъехали, поднялся сильный ветер, и пришлось задержаться в кишлаке Костакоз, что в 20 километрах от Ходжента. Здесь пробыли до утра, заночевав в саду, а с зарёй двинулись дальше. Через короткое время закончился зелёный оазис, и началась бесплодная степь. Это и был рубеж между Россией и Кокандским ханством. Правда, никаких признаков того, что это граница не было, лишь изредка встречались конные пограничники из ханской стражи, главной обязанностью которой была сбор торговой подати (зякета) с проезжающих купцов.
— Что это за местность? — спросил Федченко у одного из своих спутников.
— Это степь Сибистан - был ответ. - К югу отсюда проживают авагатские киргизы, которые не очень подчиняются кокандской власти. В прошлом году они напали здесь на русский отряд полковника Деннета.
Степное плато закончилось, и путники вновь спустились к Сыр-Дарье, по обоим берегам которой дехкане убирали хлеб.
— Мы въехали в Кокандское ханство, — сказал Алексей жене. — Вероятно, скоро увидим встречающих нас посланцев хана.
— Они знают, что мы едем?
— Да, посол хана в Ташкенте, Мирза-Хаким, сразу после нашего отъезда отправил в Коканд гонца. В отличие от нас, гонец поскакал короткой дорогой, через перевал Кендырь. Но даже если бы не отправил, здесь есть свой телеграф, называется “узун-кулак” – длинное ухо. Новости распространяются очень быстро, как говорится из уст в уста.
Так, что скоро появятся встречающие. Да вот, думаю, и они.
К путешественникам быстро приближались три всадника. Впереди на великолепном скакуне ехал “пянджибаши” (пятидесятник), за ним два его подчинённых. Они спешили поприветствовать путешественников от имени махрамского бека. Встретившись с приезжими, посланцы проделали все полагающиеся для такого случая церемонии. Спешились, пожали гостям руки, отвесили глубокие поклоны, осведомились о здоровье. В ответ Федченко спросил, здоровы ли хан и бек и пожелал благоденствия обоим.
Затем Алексей спросил о своих арбах, с которыми разминулись, на что пянджибаши ответил, что арбы прибыли ещё на рассвете. Успокоившись, Федченко приказал двигаться дальше.
Вскоре показались стены пограничной кокандской крепости Махрам. Через четыре года, 2 августа 1875 года, генерал Николай Никитич Головачёв возьмёт эту крепость, разгромив её защитников и тем самым решит судьбу Кокандского ханства. После падения крепости Коканд прекратил сопротивление и без боя открыл ворота. В Ташкенте до 1917 года одна из центральных улиц города носила название Махрамский проспект, а затем была переименована в улицу Узбекистанскую.
Обогнув крепость справа, путники въехали в ворота и оказались в городе. У домов толпились люди, глядя на путешественников как на диковинку. На крышах и над дувалами виднелись головы взрослых и детей.
У городских ворот экспедицию встречал человек в красной куртке и остроконечной шапке. В руках у него была палка, которую он держал как грудного ребёнка. Это был специально назначенный чиновник Мирза Кобил. Палка, видимо, служила символом его высокого статуса.
Алексея с супругой провели в просторную кибитку, устланную кошмами и коврами. Здесь их ждал щедро накрытый дастархан. За угощеньем Федченко попытался расспросить хозяев о стране, дорогах, соляных промыслах, открытой недавно нефти. Однако ничего толком не услышал.
- Вот увидите хана, тогда можно будет всё узнать, - неизменно звучало в ответ.
После обеда гостям подарили халаты, и супруги, в сопровождении Мирзо Кобила, отправились осматривать крепость.
На следующее утро Федченко решил сделать визит беку, чтобы поблагодарить его за халаты и угощенье, однако бек не решился их принять, пока те не представятся хану.
Что ж, оставалось только поспешить в Коканд.
За Махрамом проводники показали Алексею священную гору Афтоб, к которой по их уверениям после потопа причалил Ной на своём ковчеге. Впрочем, такую же историю супруги слышали и в Ташкенте, только тогда речь шла о горе Казыгурт, расположенной между Чимкентом и столицей Туркестана.
Дорога тянулась среди зелени садов до самого Канибадама.
- Само название – Канибадам, – означает, место где растёт миндаль. Здесь, самый лучший миндаль, сладкий как сахар, - рассказали проводники Алексею.
Вкуснейшим миндалём это место славится и поныне.
За Канибадамом зелень садов кончилась. Началась унылая степь. Среди гальки тут и там торчали кусты верблюжьей колючки, - янтака, травы которую едят только верблюды.
Не доезжая до Коканда, экспедицию встретила целая делегация военных и чиновников. Повторилась церемония встречи важных гостей, с поклонами, пожатием рук, приветствиями и пожеланиями. Тут же накормили гостей обедом, состоящим из бараний шурпы, риса с курицей и кислого молока.
Наконец, вдали показался главный город ханства, обнесённый глиняной крепостной стеной.

Крепостные стены Коканда
Сердце Алексея тревожно забилось. Что ждёт их за этой стеной? Как примет путешественников хан, и как он отнесётся к непонятному для него желанию русского проникнуть на Крышу мира? Бог весть.
Путешественников проводили в отведённый им дом, где вновь принялись угощать со всей роскошью восточного гостеприимства.
Девять человек внесли угощение на тринадцати блюдах. На первом блюде были фисташки, на втором — свежий урюк, на третьем — огурцы обыкновенные и огурцы китайские (тарря), называемые ещё змеевидной дыней, на четвертом — русские карамельки в бумажках, на пятом и шестом — местная карамель, парварда, на седьмом — леденцы, на восьмом —сухой урюк (курага), на девятом — изюм, на десятом — ранние дыни (кандаляки), на одиннадцатом — яблоки, на двенадцатом — лепешки, на тринадцатом — булочки, смазанные маслом.
Федченко, зная туркестанские обычаи, остался доволен: русским гостям оказывали достойный прием.
В тот же вечер в дом, где остановились гости, прибыло десять солдат кокандского хана -сарбазов. Одеты они были в суконные кафтаны серого и синего цвета, на которых блестели пуговицы различного вида, что немало позабавило Федченко. Были пуговицы вогнутые, выпуклые, плоские, с двуглавым орлом, якорями, пушками, скрещёнными саблями. Вооружены солдаты были ружьями и тонкими гибкими палочками – прообразом полицейской дубинки.

Кокандские воины-сарбазы перед ханским дворцом
Как выяснилось, прибыли они для охраны путешественников.
— Для чего столько солдат? — удивился Федченко. — Достаточно было одного-двух в смену.
— Таково приказ, - был ответ.
На ночь солдаты встали на свои посты, однако проснувшийся на рассвете Федченко с изумлением увидел, что все караульные крепко спят.
Утром от градоначальника прискакал нарочный, чтобы узнать всё ли благополучно у гостей. Алексей Павлович, в свою очередь, попросил поблагодарить ханского чиновника за его внимание, и спросил, когда они смогут нанести ему визит.
Не прошло и часа, как посыльный вернулся и сообщил, что мехтер приглашает путников к себе.
В сопровождении всех десяти сарбазов путешественники выехали из дому и отправились на встречу с главой города.
- Мы направляемся в городскую управу? - Поинтересовался Алексей у сопровождающего.
- Нет, мехтер вас ждёт в зякет-сарае (налоговая канцелярия, прим. В.Ф.)
Оказалось, что городской начальник ведает ещё делами торговли и сбором торговых пошлин.
Расспросив сопровождающего чиновника о налогообложении в Коканде, Федченко узнал, что в те времена налоги взимались ханскими чиновниками только с торговли, все же остальные налоги собирались местными откупщиками, которые, по собственному усмотрению, отсылали хану деньги или вещи. Так издавна повелось в Кокандском ханстве.
Но Худояр-хан попытался, как сказали бы сейчас, оптимизировать процесс. По всем городам и крупным посёлка страны, он послал своих уполномоченных (серкёров), в обязанность которых вменялось следить за тем, чтобы правителю отсылалась определенная доля от суммы всех собранных налогов. Это были глаза и уши хана.
За разговорами незаметно доехали до места встречи.
Мехтер Коканда Мирахур Мулла Мир Камиль, лично встречал путешественников, стоя на высоком крыльце зякет-сарая.

Кокандский чиновник. Фото из Туркестанского альбома
Начались уже привычные церемонные поклоны и приветствия.
На балконе канцелярии гостей ждали сладости и чай. Расположившись на мягких коврах, приступили к неторопливой беседе.
Федченко рассказал о цели своего путешествия, о том какая выгода и польза происходит от взаимного посещения соседей.
Мехтер поддакивал соглашаясь. Однако по его хитрому лицу, Алексей явственно читал, что тот вряд ли с ним согласен, да и не очень-то доверяет русскому гостю.
- У нас недавно уже побывал очень важный русский, - сказал мехтер, - он посетил все важные города ханства. Вы, вероятно также хотите посетить Андижан, Наманган, Маргелан.
«Это, конечно, был Струве, ездивший в Коканд в прошлом году с дипломатической миссией», догадался Федченко.
— Нет, цель моей экспедиции совсем другая, — ответил Алексей, — я хочу посетить горные места, которые до меня европейцы не посещали.
Удивившись, градоначальник, однако, заверил собеседника, что обо всем будет подробно и своевременно доложено хану, и как тот решит, так и будет.
— Я привёз письмо к его высочеству от туркестанского генерал-губернатора. Но должен передать его лично. Поэтому, достопочтенный мехтер, прошу вас осведомиться у его высочества, когда он соизволит меня принять. Также я просил бы вас передать хану желание моей жены представиться его высочеству, и посетить его достопочтенных жён, чтобы передать им подарки.
— Что ж, думаю, как гостям вам это будет позволено, — отвечал мехтер.
На этом беседа была закончена. Федченко возвратился в дом, где с трудом сдерживая нетерпение стал ожидать вестей из ханского дворца.
Часть 5. Аудиенция
Потянулись дни ожидания. Чтобы заполнить свободное время, Федченко решил изучить дом, в котором разместили экспедицию.
Дом представлял собой типичное жилище богатого кокандца. Большие крытые ворота, постоянно запертые, несмотря на безотлучно находившуюся при них стражу, скрывали обширный двор с сараем и пристройками. Вдоль высоких глинобитных стен были устроены навесы для лошадей, а в середине двора, для привязи их вбиты колья. В конце двора возвышалась двухэтажная постройка с жилыми комнатами и кладовыми. За постройкой был разбит огромный сад с фруктовыми деревьями. Именно в саду, поставив палатку, разместились путешественники.
Вдоль двухэтажного дома тянулись балконы, в стенах которых были сделаны ниши обмазанные алебастром. Балконы отвели для размещения джигитов охранявших экспедицию: Байтурсун, владелец страшной сабли, которому Федченко поручил, как самому надёжному, возить барометр; Галибек личный телохранитель Алексея Павловича; Арслан — охранявший Ольгу Александровну; Буканбай, сопровождавший препаратора Скорнякова; Бик-бау, состоявший при переводчике Нурекине, и Садык, приставленный к вьючным лошадям.
Сарбазы расположились в пристройке у самых ворот, называемой дарвоз-хона.
Бравые солдаты превратили это помещение в своеобразный арсенал, увесив стены оружием. Сами же разместились рядом на глиняных завалинках. В богатых домах беков и других сановниках ханства, было принято иметь при воротах такие караульные сараи и стражу.
Дом этот принадлежал человеку по имени Осман Байбача. Сам хозяин со своим семейством перебрался в другой свой дом. Сделано это было по приказу мехтера.
В ожидании приема у хана Алексей, как натуралист, решил изучить и обширный сад. Здесь росли исключительно плодовые деревья, земля под которыми была засеяна люцерной. В саду не было водоёма, однако арыки, протекавшие там, были настолько широкими, что в них можно было купаться.
Конечно, поле для наблюдений невелико, но делать нечего и Федченко занялся сбором насекомых. Большинство видов, однако, как выяснил исследователь, особого интереса не представляло.
«Два приобретения были, впрочем, интересны, — писал в своих «Записках» Алексей Павлович. —Раз вечером был пойман клоп-стенолемус. Клоп этот довольно большой, но тонкий и до крайности нежный, густо покрытый тончайшими волосками. Этот вид клопа родственен двум формам: одна из них была найдена в Мексике, другая — на острове Целебес».
Другим интересным насекомым оказался таракан.
«Прусака в Туркестане нет, — писал Федченко. — И вообще в домах я никогда не видал тараканов; встреченные же мною черные тараканы были найдены только в горах и притом всего один раз. Очевидно, внизу им слишком жарко. Отсутствие наших тараканов в жилищах — факт чрезвычайно любопытный и совершенно опровергает рассуждения тех, кто силится доказать, что черный таракан распространился е Европе через Сибирь из Туркестана... Точно так же несостоятельно и мнение, что отечество постельного клопа — Туркестан. До прихода русских там не было вовсе постельного клопа... Вообще указание на Туркестан как на родину домашних или сопутствующих человеку животных и растений было в большом ходу. При неизвестности страны удобно было указывать на Среднюю Азию как на их колыбель. Результатом нашего путешествия является совершенно обратный вывод. Туркестан почти все животное и растительное население получил из соседних стран».
К путешественникам, в качестве управляющего (сегодня бы сказали завхоза) был приставлен караул-беги (соответствует званию капитана, прим. В.Ф.) Магомет Шакир. Это был вежливый и хитрый старик. На ежедневные вопросы Алексея, когда же его, наконец, примет хан, тот отвечал уклончиво, щедро пересыпая свою речь азиатскими цветистыми оборотами.
Дом представлял собой типичное жилище богатого кокандца. Большие крытые ворота, постоянно запертые, несмотря на безотлучно находившуюся при них стражу, скрывали обширный двор с сараем и пристройками. Вдоль высоких глинобитных стен были устроены навесы для лошадей, а в середине двора, для привязи их вбиты колья. В конце двора возвышалась двухэтажная постройка с жилыми комнатами и кладовыми. За постройкой был разбит огромный сад с фруктовыми деревьями. Именно в саду, поставив палатку, разместились путешественники.
Вдоль двухэтажного дома тянулись балконы, в стенах которых были сделаны ниши обмазанные алебастром. Балконы отвели для размещения джигитов охранявших экспедицию: Байтурсун, владелец страшной сабли, которому Федченко поручил, как самому надёжному, возить барометр; Галибек личный телохранитель Алексея Павловича; Арслан — охранявший Ольгу Александровну; Буканбай, сопровождавший препаратора Скорнякова; Бик-бау, состоявший при переводчике Нурекине, и Садык, приставленный к вьючным лошадям.
Сарбазы расположились в пристройке у самых ворот, называемой дарвоз-хона.
Бравые солдаты превратили это помещение в своеобразный арсенал, увесив стены оружием. Сами же разместились рядом на глиняных завалинках. В богатых домах беков и других сановниках ханства, было принято иметь при воротах такие караульные сараи и стражу.
Дом этот принадлежал человеку по имени Осман Байбача. Сам хозяин со своим семейством перебрался в другой свой дом. Сделано это было по приказу мехтера.
В ожидании приема у хана Алексей, как натуралист, решил изучить и обширный сад. Здесь росли исключительно плодовые деревья, земля под которыми была засеяна люцерной. В саду не было водоёма, однако арыки, протекавшие там, были настолько широкими, что в них можно было купаться.
Конечно, поле для наблюдений невелико, но делать нечего и Федченко занялся сбором насекомых. Большинство видов, однако, как выяснил исследователь, особого интереса не представляло.
«Два приобретения были, впрочем, интересны, — писал в своих «Записках» Алексей Павлович. —Раз вечером был пойман клоп-стенолемус. Клоп этот довольно большой, но тонкий и до крайности нежный, густо покрытый тончайшими волосками. Этот вид клопа родственен двум формам: одна из них была найдена в Мексике, другая — на острове Целебес».
Другим интересным насекомым оказался таракан.
«Прусака в Туркестане нет, — писал Федченко. — И вообще в домах я никогда не видал тараканов; встреченные же мною черные тараканы были найдены только в горах и притом всего один раз. Очевидно, внизу им слишком жарко. Отсутствие наших тараканов в жилищах — факт чрезвычайно любопытный и совершенно опровергает рассуждения тех, кто силится доказать, что черный таракан распространился е Европе через Сибирь из Туркестана... Точно так же несостоятельно и мнение, что отечество постельного клопа — Туркестан. До прихода русских там не было вовсе постельного клопа... Вообще указание на Туркестан как на родину домашних или сопутствующих человеку животных и растений было в большом ходу. При неизвестности страны удобно было указывать на Среднюю Азию как на их колыбель. Результатом нашего путешествия является совершенно обратный вывод. Туркестан почти все животное и растительное население получил из соседних стран».
К путешественникам, в качестве управляющего (сегодня бы сказали завхоза) был приставлен караул-беги (соответствует званию капитана, прим. В.Ф.) Магомет Шакир. Это был вежливый и хитрый старик. На ежедневные вопросы Алексея, когда же его, наконец, примет хан, тот отвечал уклончиво, щедро пересыпая свою речь азиатскими цветистыми оборотами.

В обязанности Магомета Шакира лежало также продовольственное обеспечение путешественников, ведь по законам восточного гостеприимства гости не должны были сами ничего покупать. Это было несколько стеснительно, поскольку приходилось брать, что дают. Но, справедливости ради, надо сказать, что провизия доставлялась отменная и в достаточном количестве.
Но всё когда-нибудь, кончается, закончилось и томительное ожидание. Ранним утром 12 июня Федченко разбудил караул-беги и сообщил, что его высочество хан изъявил желание, чтобы русский гость представился ему сегодня.
- Он примет вас в своем новом дворце, в крепости. Собирайтесь.
- Отлично, - обрадовался Алексей, - надеюсь, моей жене будет дозволено приветствовать жён его высочества.
- Увы, в этом вам отказано, - ответил Магомет Шакир – его высочество, на вашу просьбу ответил, что хотя был бы весьма рад видеть вашу супругу, но у нас это не принято. Это может не понравиться подданным.
Жаль, - подумал Алексей Николаевич, - однако, нужно поторопиться.
Быстро собравшись, сам Федченко, переводчик Нурекин и препаратор Скорняков тотчас выехали из дома. По дороге им встретился мехтер в сопровождении внушительной свиты состоявшей из почтенных аксакалов и молодых джигитов. Присоединившись к отряду градоначальника, Федченко с товарищами двинулись к дворцу и вскоре, переехав большой канал Улькун-сай, очутились на площади перед крепостью. Это и была резиденция кокандского хана – “новая урда”, как называли дворец кокандцы.

Дворец был построен недавно. По просьбе Алексея, ему перевели надпись на фронтоне написанную по-арабски, она гласила: «Построен Сеид-Магомет-Худояр-ханом в 1287 году». Это соответствовало 1870 году европейского календаря.
У ворот начались бесконечные формальности. Прежде всего, путешественники должны были спешиться, чтобы оказать почтение правителю. Сразу за воротами оказалось просторное восьмиугольное помещение, со стенами, сплошь увешанными оружием. Здесь же находился и караул — солдаты ханской гвардии.
За караульным помещением начинался большой двор с дорожками выложенными плитами. Вдоль дорожек были выстроены солдаты. И опять Федченко подивился разнообразием костюмов и вооружения ханской армии.

В. Верещагин. Кокандский солдат
Через двор по дорожке прошли ко вторым, внутренним воротам. За ними также было караульное помещение со стражей. Здесь остановились, - сопровождающие чиновники пояснили, что нужно доложить хану о прибытии гостя.
Наконец гостей пригласили проследовать в приемную. Через арку прошли в третий, маленький дворик.
Дальше предложили пройти только самому Федченко и переводчику. Препаратор и телохранитель Алексея Байтурсун остались.
Вошли, в последний, четвёртый двор и один из придворных, указывая на дворцовое окно, сказал:
— Вот там пребывает Его величество, да продлит Аллах его дни. Надо поприветствовать хана.
Федченко снял шляпу. Сопровождавшие его кокандцы при этом громко закричали: «Ассалом алейкум! Асселом-алейкум!» Очевидно, приветствовать, таким образом, следовало гостям, но те этого не знали, и кокандцы пришли им на помощь. «Выручили», - подумал Федченко.
Алексея и его переводчика пригласили внутрь. Едва они вошли в первую комнату, как церемонимейстеры, подхватили их под руки и ввели в помещение отделанное золотом, где находился хан.

Федченко увидел мужчину лет сорока, в шёлковом халате и чалме, который, к удивлению Алексея, сидел не на троне, а на полу, на одеяле и шубе.
Удивлён был и хан, увидев двух человек, несуразно, с его точки зрения одетых. Один был в военном мундире, а другой в костюме, который хану понравиться никак не мог – Федченко по такому случаю одел фрак.
— Кто из них главный? — осведомился, наконец, Худояр хан. Ему указали на Федченко.
Хан изумился еще больше, но вида не подал. Увидев в руках Федченко письмо, правитель велел подать его ему.
— От кого это письмо?
— От его высокопревосходительства туркестанского генерал-губернатора.— Ответил Алексей.
— Как чувствует себя уважаемый? — осведомился хан о здоровье генерал-губернатора.
Переводчик, не переведя, тотчас ответил. Это весьма не понравилось хану. Он приказал перевести его вопрос. Федченко ответил, что его превосходительства чувствует себя хорошо. После этого Худояр погрузился в чтение письма, которое было написано по-узбекски.
Алексей, не отрываясь, следил за выражением лица хана.
«О чём он сейчас думает? Как-то отнесется к ученому, желающему исследовать горные районы его страны? – проносилось в голове Федченко.
Закончив читать, хан внимательно посмотрел на Федченко, и произнёс:
— Якши!
После чего слегка наклонил голову. Это означало, что прием окончен.
Гостей проводили в одну из внутренних комнат, где уже находились Скорняков и Байтурсун. Подали угощение, а затем принесли подарки.
На Федченко надели парчовый халат, очевидно, самый дорогой. Затем путешественникам предложили совершить экскурсию по ханскому дворцу. Федченко с радостью согласился, и с интересом осмотрел несколько комнат, мастерские и птичник, где в больших клетках сидели голуби, скворцы, щеглы, кеклики (горные куропатки) и сизоголовые овсянки.

Приёмный зал кокандского дворца
Наконец Федченко остался вдвоём с мехтером:
— Скажите, почтеннейший, что решил его высочество, относительно моего путешествия?
— Вы же слышали: его величество сказал «якши».
— И что это означает?
— Это означает «хорошо». Хан выразил свое полное согласие на посещение вами всех указанных в письме мест.
Алексей, испытав огромное облегчение поспешил к жене с этой радостной вестью.
По Коканду уже распространилась весть, что русский ученый, удостоился милостивого приема у хана, и тот в щедрости своей одарил его парчовым халатом.
Федченко, проезжая по улицам и базарам в ханском подарке, надетом прямо на фрак, и белой дорожной шляпе, чувствовал, с каким интересом жители Коканда глядели ему вслед.
Несмотря на то, что правила запрещали русским должностным лицам появляться на улицах в восточных халатах, даже пожалованных самим ханом, Алексей решил не снимать подарок Худояра.
«Ведь я только ученый и могу не снимать халата до возвращения домой. Я не русский чиновник, не офицер и могу поступить так, как это требуется здешними обычаями. Это расположит население в мою пользу», - решил Федченко.
«Как ни курьезно казалось мне проезжать верхом в разноцветном халате, накинутом на плечи поверх фрака, но я выдержал характер до конца и ни разу не рассмеялся во весь длинный путь через кокандский базар, — вспоминал потом Федченко. — Такая оригинальная костюмировка, действительно, отвечала своей цели. Я столько раз в этот день слышал фразы, вроде того: «как взглянет хан, «как разрешит хан», что хотел показать наглядно кокандцам ханское расположение ко мне и его любезный прием. А что же могло быть нагляднее расшитого золотом халата!».
Ну, что ж, главное сделано – разрешение получено, теперь в дорогу. Памир ждал своего исследователя.
Часть 6. Ожидание
Быстро слово сказывается, да не быстро дело делается. Несмотря на “якши”, произнесённое ханом, чтобы продолжить путь, необходимо было получить официальную бумагу, так называемую подорожную, скреплённую личной печатью правителя. Эта охранная грамота должна была послужить пропуском в горные районы и обязать местных беков оказывать всяческое содействие экспедиции Федченко.
Снова потянулись дни ожидания. Воспользовавшись заминкой, путешественники решили не терять времени, а как следует осмотреть столицу ханства, тем паче, что и дом где они остановились, и сад при нём были изучены вдоль и поперёк.
Совершая экскурсии по городу Федченко убедился, в том, что Коканд ничем не отличается от других Туркестанских городов - те же узкие улочки, петляющие между глиняными дувалами и слепыми стенами, без окон и дверей. Только базар в Коканде - своим великолепием и разнообразием поразил Алексея Павловича. Это был самый большой и оживлённый базар из всех, ранее виденных путешественником.
Снова потянулись дни ожидания. Воспользовавшись заминкой, путешественники решили не терять времени, а как следует осмотреть столицу ханства, тем паче, что и дом где они остановились, и сад при нём были изучены вдоль и поперёк.
Совершая экскурсии по городу Федченко убедился, в том, что Коканд ничем не отличается от других Туркестанских городов - те же узкие улочки, петляющие между глиняными дувалами и слепыми стенами, без окон и дверей. Только базар в Коканде - своим великолепием и разнообразием поразил Алексея Павловича. Это был самый большой и оживлённый базар из всех, ранее виденных путешественником.

Базар в Коканде. Гончарная лавка. Старинная открытка.
Это было не удивительно, ведь через Коканд проходили торговые пути в Китай и Кашгарию.
Бесчисленные лавки и лавочки, мастерские, ряды, заполненные мануфактурой, посудой, специями, овощами и фруктами, тянулись по пересекающимся улицам, заполненным народом, - мужчинами, женщинами, детьми. Время от времени эту толпу рассекали вереницы нагруженных верблюдов, с бубенчиками на мохнатых шеях. А иногда через базар провозили осуждённого на казнь преступника, и стража заставляла его кричать в толпу: “Не совершайте преступления, которое я совершил, иначе и вас постигнет та же участь”.
Федченко, случайно ставший свидетелем такой сцены, спросил у сопровождающего его караул -беги:
- Кто этот человек?
- Это купец, - был ответ
- Купец? Что же он совершил?
- Он обманщик. Он был богат и дела его в торговле шли хорошо, но жадность затмила его разум. Заняв много денег, он объявил себя разорившимся. Кредиторы пожаловались хану, и его высочество велел тайно разузнать, как живёт этот купец, - действительно ли бедствует. И оказалось, что тот приобрёл большой сад и начал строить дом. Тогда хан, да продлятся его дни, распорядился казнить обманщика.
Сурово, - подумал Алексей Павлович.
На одной из улиц Федченко увидел двух человек, скованных одной цепью. Стоя у стены, они просили милостыню. Оказалось, что это узники, которых выпускают днём, чтобы они просили подаяние, поскольку в тюрьме заключённых не кормили. Сцена эта произвела на Алексея тягостное впечатление.
Кроме главного базара, в центре Коканда, существовали и мелкие базарчики, которые располагались на мостах, переброшенных через Улькун-сай и Кичик - сай, - рукава реки Сох, протекающей через город.
Один из таких мостов, Хишт-Куприк, просто очаровал Федченко.
Украшенный башенками-минаретами, с лестницами внутри, мост был крытым. По обеим сторонам были устроены лавочки, четыре из которых представляли собой порталы, в которых сидели гадальщики.
Заметив интерес русского, сопровождающий его начальник караула, с гордостью сказал:
- Этот мост этот построили при Мухамад али Хане.
Федченко уже привык к тому, что имя этого жестокого правителя, кокандцы произносили с неизменным уважением. Напротив, об отце нынешнего хана, недалёком и мягком Шир-Али, говорили с усмешкой и без всякого почтения.
Мост Хишт – Куприк, к сожалению, не сохранился до наших дней. В 1931 году он был разрушен, а на его месте был построен современный мост.
Не всюду, куда хотел попасть Алексей, его пускали. Не удалось, в частности, осмотреть монетный двор, где чеканились “коканы”, три мешка, которых привёз с собой путешественник.
Но посетить некоторые медресе и мечети всё же удалось.

Старинная раскрашенная открытка
Однажды проезжая по какой-то улице, Федченко со спутниками увидели большую гробницу. На просьбу осмотреть усыпальницу караул - беги нехотя, но согласился.
“Зачем неверным смотреть на святыню?” – Вероятно, подумал он.
Но, ютившиеся у могилы нищие, и муллы, служившие там, напротив, отнеслись к русским путешественникам приветливо. Показав гробницу, они на прощание прочли молитву о благополучии путешествующих.
«Это был первый виденный мной случай терпимости со стороны мусульманского духовенства, — писал впоследствии Федченко, — о котором я всегда читал и слышал как о крайне фанатичном. Позднее я имел много случаев видеть такое же отношение к нам со стороны дервишей и мулл. Нельзя предположить, что их соблазняли серебряные монетки!»

Уже перед самым отъездом, Федченко побывал в гостях у Султан Мурад бека, родного брата Худояр хана. Султан Мурад властвовал над Маргиланским бекством. Установить с с ним хорошие отношения было чрезвычайно важно. Алексей слышал от кокандцев, что брат правителя, очень умный и толковый человек, и при личной встрече он в этом полностью убедился. Маргиланский бек и вправду оказался приветливым хозяином и любезным собеседником.
Алексея пригласили в комнату, где он, к своему изумлению, увидел накрытый скатертью стол и четыре табурета. Очевидно, хозяин решил меблировать комнату в русском стиле, чтобы показать гостю, что он не чужд новым веяниям. Но, как заметил Федченко, сам бек вряд ли пользовался этой мебелью.
Султан Мурад, - мужчина лет тридцати пяти, приятной наружности, - встретил гостя в халате из китайского шелка с вытканными золотыми узорами. После обычных церемоний, подали чай и угощение к нему - как посчитал Федченко, на двадцати семи подносах.
Конфеты, фрукты — свежие и сушеные, засахаренные яблоки, халва, мёд, орехи. Особенно понравился Алексею кандак-нишалды, яичный белок, взбитый с сахаром.
Но угощение - угощением, а дело, прежде всего. Алексей стал рассказывать собеседнику, с какой целью он совершает путешествие по территории ханства, почему он стремиться в места, где ещё не был ни один европеец. Говорил он просто и убедительно.
Хозяин внимательно слушал и охотно соглашался, стараясь всячески показать, что высоко ценит все новое, приходящее к ним из России. На столе в вазочке лежали русские конфеты, завёрнутые в бумажки, на которых по-русски были написаны какие-то стишки. Султан Мурад попросил Федченко прочитать и перевести их ему. Однако стишки эти были такие бессмысленные, что бек ничего бы не понял и не оценил русскую поэзию. Тогда Алексей стал читать ему стихи Пушкина.
Султан Мурад в свою очередь рассказал русскому исследователю о добыче нефти в управляемом им бекстве. На территории Маргилана в то время было 15 нефтяных скважин, у которых по приказу бека были выкопаны арыки и пруды, и, с целью сохранения, их окружили стеной. Накопленную нефть наливали в кожаные мешки, затем привозили в Маргилан для получения керосина, для чего кипятили нефть в чугунных котлах. Керосин был весьма ходовым товаром, так как являлся дешёвым источником света и им широко пользовались. Таким образом, Султан Мурад был одним из первых нефтяных магнатов Туркестана. Справедливости ради надо сказать, что Маргеланский бек, тратил много средств на благотворительность и строительство мечетей и медресе.

Строящееся медресе Султан Мурад бека. Фото из Туркестанского альбома
Решив, что аудиенция подошла к концу, Федченко стал откланиваться, но не тут то было. Объявили, что сейчас подадут обед. Опять стали вносить подносы. Сначала блюдо похожее на русские пельмени - чучвару, затем вареную курицу с лапшой и завершил трапезу традиционный плов. Вместе с блюдами принесли тарелки, ножи, вилки и ложки. Хозяин, однако, ушел обедать в другую комнату. Видимо, он не был уверен, что сможет справиться с европейскими приборами, а руками, есть при русских, стеснялся.
После обеда гостям поднесли халаты, и Султан Мурад бек любезно распрощался с ними.
Как ни увлекательно было изучение города и его жителей, но уже не терпелось продолжить дальнейшее путешествие. Сияющие вершины Памира манили исследователей.
Давно всё было приготовлено– куплены для подарков халаты, дорогие и не очень. Заключён договор с неким Мирзо Раимом, который за 15 рублей предоставлял экспедиции вьючных лошадей и брал на себя обязательство заботится о них и грузе.
Одно огорчало, повар Василий, который сопровождал и кормил путешественников от самого Ташкента, то ли действительно заболел, то ли притворился, испугавшись трудности дальнейшего пути, но ехать дальше отказался. Пришлось взять местного повара - молодого узбека.
15 июня Алексею, наконец, вручили долгожданную грамоту, которой говорилось:
«Правителям, аминам, серкерам и другим начальствующим лицам округов Маргелана, Андижана, Шахрихана, Аравана и Булакбаши и городов Оша, Уч-Кургана, Чимиона, Соха, Исфары, Чарку и Воруха да будет известен сей высочайший приказ: шесть человек русских, и в числе их одна женщина, с семью служителями едут видеть гористые страны, почему повелевается, чтобы в каждом округе и в каждом месте их принимали как гостей, чтобы никто из кочевников-киргизов и оседлых узбеков не трогал их и чтобы упомянутые русские совершили свое путешествие весело и спокойно. Это должно быть исполнено беспрекословно».
Внизу стояла подпись и печать Худояра хана.
Кроме этого хан дополнительно выделил для сопровождения путешественников отряд конвойных из восьми человек.
16 июня, отправив часть вещей и серебряных денег в Маргелан, Федченко с женой, переводчиком Нурекиным, препаратором Скорняковым и вооружёнными джигитами выехал в горы. Сопровождал экспедицию почтенный караул-беги Абду-Карим.
Мечта Алексея становилась явью.
Часть 7. Вперёд и вверх, а там…
Начать решили с истоков реки Исфары, как можно быстрее миновав полосу орошённых земель.- Там может быть много интересного, - увлечённо сказал спутникам Алексей, - возможно, мы встретим ледник.
Происхождение ледников, было одной из научных загадок того времени. Исследователи второй половины 19 века, с увлечением искали в горах Европы и Азии следы древних оледенений.
Из Коканда путешественники выехали из ворот, называемых “Афганскими”.
- Отчего такое название, - спросил Федченко у караул-беги.
- Здесь, у самых ворот находится кишлак Ауган. В нем живут выходцы из Афганистана.
- И как давно они здесь поселились?
- Очень давно, даже мой отец этого не помнит.
Происхождение ледников, было одной из научных загадок того времени. Исследователи второй половины 19 века, с увлечением искали в горах Европы и Азии следы древних оледенений.
Из Коканда путешественники выехали из ворот, называемых “Афганскими”.
- Отчего такое название, - спросил Федченко у караул-беги.
- Здесь, у самых ворот находится кишлак Ауган. В нем живут выходцы из Афганистана.
- И как давно они здесь поселились?
- Очень давно, даже мой отец этого не помнит.

Городские ворота Коканда
От Аугана повернули направо. Необходимо было определить направление. Но достать компас и записать азимут, Алексей не решился. Кокандцы весьма подозрительно относились к записям и зарисовкам, которые делали чуземцы.
Однажды, застав врасплох путешественника с компасом в руке, Абду Карим, спросил, что тот делает.
- Это прибор для настройки часов, - нашёлся Федченко.
Спустя какое-то время, двое джигитов увидели, как исследователь держит в руках буссоль.
- Тюря, что вы делаете? Что это за машинка?
- Эта машинка, помогает мне увидеть то, что далеко
- Дайте и нам посмотреть!
Долго, по очереди смотрели они в диоптрии и, наконец, удовлетворившись, сказали:
— Якши! Якши! Хорошая машинка.
После этого Федченко не делал никаких записей, стараясь запомнить цифры углов и уже после, когда его никто не видел, записывал нужные цифры.
А чтобы окончательно успокоить соглядатаев, Федченко, зная восточную психологию, передал буссоль жене.
Можно ли женщине поручать важное, секретное дело? В руках Ольги Федченко буссоль не казалась столь подозрительной.
В дальнейшем, работая таким образом в тандеме с супругой, Федченко удалось составить первые в мире карты предгорий Алайского хребта.
Первую ночёвку провели в богатом кишлаке Яйпан (ныне это город в Ферганской области с 30-ти тысячным населением). Там, для путешественников уже были приготовлены помещения, обильный ужин и корм для лошадей. Делалось это не только по повелению хана, но в первую очередь по обычаям восточного гостеприимства – законом которого было - «Накорми гостя, кто бы он ни был».
Ночь в Яйпане Федченко с женой провели на плоской глиняной кровле, любуясь небом, усеянным звездами. Утром после сытного завтрака, путники двинулись дальше.
За Яйпаном зелёный оазис закончился. До самых гор, расстилалась каменистая степь, которая, впрочем, скоро закончилась и путешественники въехали в ущелье Ляккон-Дагана. Федченко со спутниками поднялись на скалу, чтобы полюбоваться на долину. Панорама, которую они увидели, была прекрасна. Внизу расстилалось зелёное море, в котором утонули кишлаки и столица кокандского ханства.
Алексей был потрясён:
- Такой массы зелени я еще не видел в Туркестане. И ведь этот оазис создан трудом человека! - сказал он жене.
- Ну, как, якши? - спросил, не без гордости за свой край, подошедший караул-беги.
Тронулись дальше по ущелью. Солнце поднималось всё выше и выше, и путников стала донимать жажда. Увидев ручей, протекающий по дну ущелья, решили напиться. Однако едва сделав глоток, испытали разочарование – вода оказалась горько-солёной.
“Где-то пласты каменной соли, по которым течёт вода”, - понял Федченко.
Выручил жаждущих арбакеш, предусмотрительно запасшийся пресной водой.
Дорога петляла по ущелью, то поднимаясь, то опускаясь. Наконец выехали к лощине, на краю которой показалась яркая зелень.
- Ну, вот и Исфара, - сказал караул-беги.
Да, это было город Исфара, лежащий на берегу реки того же названия. Ныне это районный центр Таджикистана, расположенный на стыке трёх республик - Узбекистана, Таджикистана, и Киргизии.
Первое, что бросилось в глаза путешественникам при въезде в Исфару, была виселица, под которой нужно было непременно проехать.
«Неприятное чувство овладело мною, - вспоминал впоследствии Федчеико, - когда я увидал над собою это орудие казни».
Вечером, после уже привычного обильного угощения, Алексею Павловичу представили почтенного старца Сеид Ахмета. Узнав, что в город прибыли чужеземцы, он решил познакомиться с ними. Старец рассказал Федченко, что 30 лет назад он уже видел европейца – англичанина, который приезжал к хану.
- Он всё говорил мне, что у нас горы маленькие, не то, что у них, - вспомнил старец.
“Это наверняка несчастный Конноли, и рассказывал он о Гималаях”, - понял Алексей.
Английский разведчик, Артур Конолли в 1840 году был направлен в Среднюю Азию для сбора сведений и для того, чтобы склонить Туркестанских владык к союзу с Британией для противостояния расширению влияния Российской Империи.
После безуспешного визита в Хиву он направился с такой же миссией в Кокандское ханство. Там его приняли также весьма холодно. Решив, что эта головная боль с инглизом ему не нужна, Мадали хан отправил Конноли в Бухару, - пусть эмир решает его судьбу.
Эмиру Насрулле, за жестокость, прозванному в народе Мясником, английский посланец решительно не понравился. Не знакомый с местными традициями, явившийся без подарков, и должного почтения, Конноли произвёл на властителя Бухары крайне отрицательное впечатление.

Эмир бухарский Насрулла и британский разведчик Артур Коннолли
Решив, что англичане далеко, а русские рядом, он отправил эмиссара в темницу, где уже год томился другой англичанин - полковник Стоддард.
В конце концов обоим отрубили головы. Интересно, что именно Конноли ввёл в политический словарь термин Great Game (Большая игра), обозначающий борьбу между Британской и Российской империями за господство в Центральной Азии. В широкий оборот, это название ввёл уже Редъярд Киплинг, использовав его в романе “Ким”. А Конноли сам пал жертвой этой “Большой игры”.
Уважаемого Сеид Ахмета, угостили, одарили халатом, и Алексей стал расспрашивать его о пещерах на Исфаре и о зеркальном камне, в котором предметы отражаются как в зеркале. Об этих диковинах он слышал ещё в Ташкенте.
Старик, однако, про камень ничего не знал.
- А пещер никаких у нас нет, - продолжил старец, - есть только подземный арык, который прорыл житель кишлака Сур, Ташбай.
На следующий день путешественникам показали древнюю мечеть, построенную в 1578 году шайбанидом Абдуллохоном. Мечеть также выполняла функции медресе.
Мечеть в Исфаре в наше время
На следующий день, едва Исфара осталась за спиной, перед путешественниками открылся изумительная панорама. Вот что, писал впоследствии Федченко.
«Вид, открывшийся перед нами, как только мы выехали из садов Исфары, был великолепен, я назову его единственным, какой я видел в этом роде в Туркестане, —Широкая долина, до полуверсты в поперечнике, обрамленная темными скалистыми горами, была почти сплошь покрыта садами и полями. Небольшие возвышенности в долине тоже были покрыты зеленью. Они красиво разнообразили ландшафт. Голые же горы круто спускались с обеих сторон к долине и своими черными, а местами красными скалами еще резче оттеняли свежую зелень долины. На заднем плане горы того и другого берега почти сходились и замыкали долину, оставляя только тесный проход для реки».
Проехав небольшой кишлак Сур, путники увидели вдалеке большое селение, которое лежало в лощине. Горы, окружившие его с двух сторон, представляли собой террасы с возделанными садами. Только вершины были голыми, из-за невозможности провести туда воду. Это была Чарка, большой кишлак в четыреста домов, большая редкость в этих местах.
Здесь находилась вторая в ханстве бумажная фабрика. Федченко не упустил возможности осмотреть и её.
Сразу за лощиной началось ущелье, перед которым путешественники увидели развалины древней крепости.
-Это старая крепость Зимвраша, - пояснил караул-беги.
- Должно быть это та самая крепость, которую когда-то осаждал Бабур, - сказал Федченко своей жене.
- А вы читали Бабур–наме? - обратился Алексей к Абду Кариму.
- Нет.
- Ну, а о Бабуре слышали наверняка.
- Да, конечно, он плохо кончил: Бабура побили камнями.
Сильно удивившись, Федченко рассказал Абду Кариму, что Бабур был известным поэтом, историком, основателем великого государства моголов в Индии.
Однако было видно, что караул-беги, не верит словам собеседника.
- Ты говоришь, что Бабур поэт, что Бабур, ученый и мудрый правитель. А мне отец рассказывал про Бабура совсем другое. Хан Бабур был очень плохой человек. Он погряз в грехах и однажды с небес раздался голос: «Убейте хана Бабура». И народ побил греховодника камнями.
Подивившись, что в родной Фергане о Бабуре ходила столь дурная слава, разубеждать караул-беги Федченко, тем не менее, не стал.
Дальше дорога шла по ущелью. Бешеная река бурлила в камнях, обдавая лица путешественников холодными брызгами. Уже взошла луна, когда путники добрались до селения, где решили заночевать. Кишлак уже спал и Федченко со спутниками, остановились в нерешительности, не зная, что им делать.
По счастью из-за угла выехал всадник, который узнав, что перед ним путешественники с подорожной самого хана, отвёл их в сад где путники и устроились на ночлег.
Кишлак этот назывался Ворух, и проживали в нём преимущественно таджики.
Проснувшись с восходом солнца, Алексей был очарован открывшимся видом. Внизу под обрывом катил свои воды бурный Кшемиш, который дальше сливаясь с Кереушином превращался в Исфару. Вдалеке вздымалась Двурогая гора.

Река Исфара
“Вот отсюда мы и двинем в горы, - подумал Алексей, - надо только решить по какой дороге лучше идти, по Кшемишу или Кереушину.”
Часть 8. От Соха до Шахимардана
Чтобы двинуться дальше в горы, Федченко пришлось преодолеть сопротивление караул-беги, которому очень не хотелось подниматься вверх. Абду Карим заявил, что в горы дорог нет, и никто из жителей туда не поднимается. Но Алексей был настойчив и всё-таки заставил подчиниться себе караул-беги и джигитов. К тому же, по счастью, нашёлся проводник, им оказался возвращающийся с побывки ханский джигит Хасан-пянджибаши.Ханская грамота, показанная Федченко, произвела на того нужное впечатление и пянджибаши согласился проводить путешественников в горы.
Двинулись по Кшемишу и вскоре въехали в ущелье Хаджи-Чибурган, названного так, в честь святого отшельника, который когда-то здесь жил.
Дорога поднималась всё выше и к вечеру достигли киргизского аула. В нём и заночевали. Утром семидесятилетний караул-беги категорически отказался ехать дальше.
- У вас есть теперь проводник Хасан, - сказал старик, — он вас и поведет, а я и ещё несколько моих людей подождём здесь.
Делать было нечего, пришлось оставить упрямого старика.
Дорога за аулом сделалась такой крутой, что пришлось всем сойти с лошадей и идти пешком. Продвигались с трудом, но всё же достигли вершины на высоте 3500 метров. Прямо перед путниками открывался вид на снежный массив Хотур-Тау, за которым виднелись ещё более высокие снежные пики.
Под ногами путешественников, на глубине примерно пятисот метров, простиралась широкая долина, на дне которой еле проглядывалась серая полоска.
- Что это за полоска? Высохшее русло? – спросил Алексей.
- Нет, это река, - ответил проводник.
- Что ж давайте спускаться.
Джигиты принялись отговаривать Федченко, утверждая, что спуститься здесь невозможно. И вновь Алексею пришлось проявить твёрдость. Под угрозой того, что о трусости джигитов узнает хан, отряд всё же двинулся вниз.
Вначале спуск был тяжёлый, но спустившись на 200 метров, путники выехали на широкую дорожку, ведущую к ручью, по берегам которого раскинулись белые юрты. Они принадлежали киргизскому баю Катта-Ай-Магомету. Увидев внушительный отряд, он поспешил выйти им навстречу.
Алексей спросил:
- Откуда течёт эта река?
- Со льдов, — твердо ответил старик.
Сердце Федченко забилось. “Вот он ледник”, - мгновенно пронеслось в его голове.
Двинулись вверх по руслу. Путь оказался нетрудным, дорога была хорошо протоптанной многочисленными стадами, проходившими к высокогорным пастбищам.
Наконец увидели ледник. Ущелье заканчивалось им. Из-под массы серого цвета вытекала, пробираясь через груды больших валунов, река. Здесь разбили лагерь, чтобы отдохнув, завтра со свежими силами совершить восхождение на ледник, которому Федченко уже дал имя – ледник Щуровского. Назвал он его так в честь своего учителя, Григория Ефимовича Щуровского, геолога, палеонтолога, анатома, первого профессора геологии и минералогии Московского университета, возглавлявшего эту кафедру около 50 лет.
Двинулись по Кшемишу и вскоре въехали в ущелье Хаджи-Чибурган, названного так, в честь святого отшельника, который когда-то здесь жил.
Дорога поднималась всё выше и к вечеру достигли киргизского аула. В нём и заночевали. Утром семидесятилетний караул-беги категорически отказался ехать дальше.
- У вас есть теперь проводник Хасан, - сказал старик, — он вас и поведет, а я и ещё несколько моих людей подождём здесь.
Делать было нечего, пришлось оставить упрямого старика.
Дорога за аулом сделалась такой крутой, что пришлось всем сойти с лошадей и идти пешком. Продвигались с трудом, но всё же достигли вершины на высоте 3500 метров. Прямо перед путниками открывался вид на снежный массив Хотур-Тау, за которым виднелись ещё более высокие снежные пики.
Под ногами путешественников, на глубине примерно пятисот метров, простиралась широкая долина, на дне которой еле проглядывалась серая полоска.
- Что это за полоска? Высохшее русло? – спросил Алексей.
- Нет, это река, - ответил проводник.
- Что ж давайте спускаться.
Джигиты принялись отговаривать Федченко, утверждая, что спуститься здесь невозможно. И вновь Алексею пришлось проявить твёрдость. Под угрозой того, что о трусости джигитов узнает хан, отряд всё же двинулся вниз.
Вначале спуск был тяжёлый, но спустившись на 200 метров, путники выехали на широкую дорожку, ведущую к ручью, по берегам которого раскинулись белые юрты. Они принадлежали киргизскому баю Катта-Ай-Магомету. Увидев внушительный отряд, он поспешил выйти им навстречу.
Алексей спросил:
- Откуда течёт эта река?
- Со льдов, — твердо ответил старик.
Сердце Федченко забилось. “Вот он ледник”, - мгновенно пронеслось в его голове.
Двинулись вверх по руслу. Путь оказался нетрудным, дорога была хорошо протоптанной многочисленными стадами, проходившими к высокогорным пастбищам.
Наконец увидели ледник. Ущелье заканчивалось им. Из-под массы серого цвета вытекала, пробираясь через груды больших валунов, река. Здесь разбили лагерь, чтобы отдохнув, завтра со свежими силами совершить восхождение на ледник, которому Федченко уже дал имя – ледник Щуровского. Назвал он его так в честь своего учителя, Григория Ефимовича Щуровского, геолога, палеонтолога, анатома, первого профессора геологии и минералогии Московского университета, возглавлявшего эту кафедру около 50 лет.

Г.Е. Щуровский
Утром на ледник пошли впятером: Федченко, препаратор, охотник и два ташкентских джигита. Ольга Александровна осталась внизу, чтобы зарисовать общий вид ледника.

Ледник Щуровского и истоки реки Исфары. Рис. О. Федченко
Никакого опыта восхождения на ледники у Федченко не было. Не было рядом и человека, который мог бы помочь в этом. Приходилось полагаться только на себя и свою интуицию.
Ледник поднимался почти отвесно, двигаться по этой стене было небезопасно, тем не менее, соблюдая осторожность, поднялись на 25 метров и подъём стал более пологим.
На леднике царила первозданная тишина, нарушаемая только шумом воды, падавшей вниз сквозь трещины. По дороге подстрелили горную куропатку.
Путники поднимались всё выше и выше. Становилось тяжело дышать. Наконец остановились на краю обрыва, чтобы насладиться своеобразной красотой ледника расстилавшегося перед ними.
Позже Федченко напишет: «Обширная снеговая площадь ледника была ограничена на юге и юго-западе рядом высоко поднимавшихся пиков. Самые высокие из них были на юге. Пики были покрыты снегами, но не сплошь. Они очень круты, многие места просто отвесны, и понятно, что снег не может на них удержаться; видно, как свалившийся снег образовал у подошвы пиков пологие насыпи”.
Стоя над ледником, Алексей быстро набросал его план.
Солнце скрылось за вершинами гор, появились тучи, стало холодать, пора было спускаться.
Спустились благополучно. Федченко пребывал в эйфории. Путь на ледник был разведан, и на следующий день исследователь вновь решил подняться наверх и дойти до самого гребня. Но тут взбунтовались джигиты:
- Мы должны возвращаться иначе замёрзнем, и наши лошади с голоду подохнут. Здесь корма для них нет, - стали роптать они.
У Федченко была задумка пробраться в долину Зеравшана через открытый им ледник. Но плану этому не суждено было осуществиться. Однако ему уже стало ясно: ледник этот даёт начало трём рекам - Исфаре, Зеравшану и Соху.
Обратный путь прошёл без особых приключений. Караул-беги радостно встретил вернувшихся. Видимо, старик сильно тревожился, ведь случись что с гостями хана, его бы ждала незавидная судьба.
Отсюда Федченко решил проехать в Сох прямой дорогой по высокогорью. Но едва он завёл об этом речь, как опять встретил дружный отпор джигитов:
- Это невозможно. Там свирепствую разбойники. Они весной бунтовали против хана!
Пришлось двигаться в обход. За киргизским селением Кех долина перешла в плоскогорье. Проехав по нему километров двенадцать, увидели, что дорога спускается в трещину, на дне которой белело высохшее русло. Ущелье сузилось до 4 - 6 метров, над тесниной нависали огромные камни, грозя вот-вот свалиться на головы путникам.
Это узкое ущелье киргизы называли Кара-Кол.
Федченко спросил, что означает это название и получил ответ, что Кара это чёрный, а Кол – палка, играющая роль притолоки в юрте. Алексей, хорошо зная французский, вспомнил, что во французском языке есть слово col, одно из значений которого, - узкий проход в горах и очень удивился такому совпадению.
Едва путники выехали из этой щели, как увидели арбу, которой они очень обрадовались: появление громоздкой арбы означало, что теснина окончилась.
Едва выехав из этой мрачной расщелины, путники увидели, что навстречу им направляется группа всадников. Оказалось, их выслали навстречу путешественникам ускакавшие вперед джигиты.
Всадники проводили гостей в селение Кара-Булак и разместили в саду.
Лощина, где располагалось селение, была густонаселенной. Жители близлежащих кишлаков были заняты земледелием и даже сеяли хлопок. В Кара-Булаке пробыли недолго, переночевав, двинулись дальше на северо-восток. Путь пролегал по степной равнине, с юга которой, величественно возвышались снеговые горы Алаудин.
Вскоре въехали в котловину, и глазам путников открылась долина реки Сох, на правом берегу которой раскинулся большой кишлак с таким же названием.
При въезде в селение опять увидели виселицу, как и в Исфаре.
Виселицы после совершения казни не разбирали, они должны были служить напоминанием о неминуемой каре за совершённое преступление.
В кишлаке Федченко ждала огромная радость. Нарочный от маргеланского бека Султан-Мурада привёз для Алексея Павловича письма и газеты. В записке бек писал, что пересылает почту по поручению из Ташкента.
Одарив нарочного халатом, Федченко с ним же передал ответную почту до Коканда, откуда она должна была отправиться в Ташкент.
30 июня путешественники продолжили путь. Ещё будучи в Сохе, Алексей от местных жителей услышал о селении Чашма с целебными источниками.
- Вы, господин, должны побывать в Чашме, родники Чашмы поят земли всего Соха, - то и дело слышал он со всех сторон.
И вот наконец перед путешественниками открылось это поистине волшебное чудо, созданное природой.

Перед Федченко был выложенный камнями круглый бассейн, со дна которого били ключи. Вода была прозрачна как стекло. Она выливалась в большие арыки, которые несли эту воду в долину.
Из Чашмы путь лежал в Шахимардан.
По склонам гор и вдоль дороги росли кустарники: барбарис, шиповник, карагана, арча.
Дорога была широкая и накатанная. Это обстоятельство удивило Федченко.
Караул-беги пояснил, что дорогу эту привели в порядок в прошлом году, поскольку по ней должен был проследовать его величество хан. Да, ничего не изменилось с тех давних пор - перед проездом важной персоны дороги срочно ремонтируют.
После спуска с перевала дорога раздвоилась. Путешественники остановились в сомнении. По которой из них ехать?
По счастью, появился местный киргиз, который сообщил - обе дороги приведут в Шахимардан. Выбрали ту, которая вела по лощине, с двух сторон окруженной скалистыми горами.
Переночевав в кишлаке Охна, едва рассвело, двинулись дальше.
Вскоре въехали в долину, по которой протекал Шахимардан-сай. В переводе с персидского Шахимардан означает «повелитель людей», название это относится к мусульманскому святому Хазрат-Али, четвёртому халифу, зятю пророка Мухаммеда. По преданию здесь находится одна из возможных семи его могил.
Вода в речке поразила Алексея своим цветом: мутно-бело-коричневая, словно кофе с молоком. Это был верный признак, что сай берёт начало с ледника, протекая затем через известняковые пласты.
«В верховьях Шахимардан-сая обязательно должен быть ледник, — понял Федченко. — Посмотрим! Это будет уже второй — после ледника Щуровокого в верховьях Исфары».
К сожалению исследователю не удалось добраться до сохского ледника, открытого позже.
Не доезжая четырёх километров до Шахимардана, путешественники увидели огромный, в несколько тонн камень, лежащий у самой воды. По уверению караул-беги, святой Али забавлялся этим камнем, называемым «эллик-пайса», перебрасывая его с ладони на ладонь. Федченко лишь улыбнулся.
Вот последний поворот, и перед путниками открылся чудесный вид: купол горы Исбасар как бы обнимает купола поменьше - Катта-тепа и Кичкина-тепа.

Рисунок Ольги Федченко
Перед путниками возникло сказочно красивое место, вероятно, самое живописное в Ферганской долине - Шахимардан.
Часть 9. На Алай
Сады Шахимардана высоко поднимаются по склонам гор и широко разбросаны по ущельям и долинам. Две бурные горные реки сливаются у селения – Аксу и Карасу (белая вода и чёрная вода). По преданию, святой Али Хазрат высек из горы воду и дал жизнь этим рекам. На высокой скале, укрытая зеленью, находиться его гробница – святыня, равной которой нет во всём Кокандском ханстве. Сюда в летнее время стекались толпы богомольцев, чтобы поклониться священному месту. Сам хан не раз приезжал сюда на поклонение.

Сопровождающие Федченко джигиты и киргизы, вымывшись и одев всё чистое, также отправились поклониться Шахимарданской святыне.
Самого же Федченко, к его глубокому огорчению, до гробницы не допустили, сказав, что для неверного это невозможно. Даже переводчика Нурекина, мусульманина, заставили снять русский мундир и надеть халат.
Алексею Павловичу объяснили, что он и его люди находятся в гостях у метевали, хранителе мавзолея, и гостеприимство, предложенное путешественникам, целиком зависит от его доброй воли. Власть метевали в Шахимардане простиралась так далеко, что ни Маргеланский бек, ни даже кокандский хан не могли ему здесь быть указчиками.
Федченко поблагодарил за оказанную ему честь, и попросил передать метевали, что хотел бы встретиться с ним.
На следующий день аудиенция состоялась. Проходила она довольно странно. Федченко хозяина Шахимардана так и не увидел. Путешественников провели в крытую галерею, но метевали к ним так и не вышел. Весь разговор проходил через открытую дверь в комнату где находился властительный собеседник. Расспросив Алексея метевали прочёл молитву о путешествующих и на этом, беседа закончилась.
3 июля намеревались двинуться из Шахимардана в Караказук, но неожиданно к Алексею явилась депутация от жителей и стала усердно отговаривать того от поездки, мотивируя тем, что есть опасность нападения разбойников - каратегинцев.
Федченко, догадавшись, что это опять козни карул – беги, пришёл в бешенство. Он тут же послал сообщение кокандскому мехтеру с просьбой воздействовать на Абду-Карима, дабы тот не препятствовал планам исследователя. Ведь мечта Алексея посетить Алай, само название которого означало “удивлять”, была так близка.
В конце письма Федченко написал: «Если же по истечении пяти дней я не получу от вас ответа, то все-таки полагаю отправиться по долине Аксу к Караказыку, предполагая, что вы нашли изложенные в этом письме опасения жителей не заслуживающими внимания и ответа и что вы считаете прежде принятые вами меры достаточными для нашей безопасности».
Пока дожидались реакции из Коканда решили посетить озеро Курбанкуль, находящееся в десяти километрах от Шахимардана.
Дорога шла по ущелью, по обеим сторонам которого обильно росли сады. Пройдя километров пять, путешественники увидели скопище громадных камней. Подъехав ближе Алексей понял, что здесь произошел горный обвал. Из-под каменных глыб сочилась вода, сливаясь ниже в бурную речку.
“Это вода из озера”, - понял Федченко.
Местный житель, сопровождавший путешественников, рассказал, что с этим истоком реки легенда связывала имя святого Али-Шахимардана. Чудесное отверстие в горе было пробито его белым верблюдом, для того чтобы этим коротким путем Али мог уйти в Аравию. Вода эта, с тех пор, считается целебной. Сюда также отовсюду стекаются паломники, чтобы совершить омовение.
Задержавшись на несколько минут около этого места двинулись дальше, к природной каменной плотине, перегородившей долину.
Поднявшись без особых усилий, путешественники остановились очарованные открывшимся чудесным видом. Под ногами, окружённое величественными горами, лежало горное озеро с чистейшей голубой водой.
- Как называются эти две горы на юге? - Спросил Федченко
- Малик и Кауштус, — был ответ.
Ольга Александровна достала альбом, пристроилась на большом камне, и принялась зарисовывать чудесный вид.

Озеро Курбанкуль. Рис. Ольги Федченко

Современный вид озера
Федченко поднялся ещё на несколько метров и еще раз внимательно осмотрел каменную плотину. Происхождение озера стало для него понятно. В результате гигантского обвала, вызванного, скорее всего сильным землетрясением, с окрестных гор скатились огромные обломки скал. Образовалась естественная плотина, и вода, стекающая с вершин, заполнила собой впадину.
Ольга Александровна закончила рисунок и путешественники, полюбовавшись напоследок чудесным видом возвратились в Шахимардан.
19 июля был, наконец, получен ответ из Коканда. В письме кокандский мехтер сообщал:
«Почтенному приятелю нашему Алексею Павловичу Федченко.
Письмо ваше, присланное с Мухаммед-Юсуфом, нами получено. Его величество хан уехал в северные владения и письмо ваше, где вы желаете перевалиться через каратегинский давай (перевал), я уже послал к хану. Но я, желая вам добра, могу сказать, что лучше бы было, если бы вы оставили ваше желание съездить в ту страну, так как каратегинскне владения — страна, нам не подвластная и не дружественная.
Просите вы также побольше людей, но если вы поедете в ту страну со многими людьми, то жители испугаются, и этим учинится нашим подданным беспокойство, встревожатся также и каратегинцы, узнав о приезде многих людей.
Нехорошо, если с вами какое-нибудь случится несчастье. Мы не знаем и не видим, какая польза нам принесется, если вы посетите эту страну, считаем также не безвредной и вашу поездку туда, но желаем только одного: чтобы вы как приехали благополучно, так и благополучно вернулись. Так как его величество, наш хан, находится в дружбе с великим императором и генерал-губернатором, то нам будет неприятно и совестно, если какие-нибудь недобрые люди — воры или тюрки — нанесут вам несчастье. Наши люди, находящиеся при вас, добра вам желают. Лучше сделаете, если будете слушаться их предостережений.
1288 года первый день месяца Хаммад-ул-Ауал.
Мулла Мир-Камиль мехтер мирахур, сын муллы Мир-Гинаят».
“Ну, что ж,- подумал Федченко, - мехтер просит не ездить в Каратегин. Вероятно, он неправильно осведомлён о моих намерениях и не понимает целей моих изысканий. Понятно, что мехтер боится, как бы со мной не случилось несчастье, что конечно осложнит отношения между Кокандом и Россией. В дополнительной охране также отказано. Значит нужно рассчитывать только на свои силы”.
Федченко тотчас написал ответ, где постарался успокоить мехтера и уверить его, что он хочет лишь добраться до гребня Алайских гор и не собирается в каратегинские владения.
«В отплату за гостеприимство, которым мы пользуемся, — писал он мехтеру, — я вовсе не желаю подвергать ханское правительство неприятностям».
8 июля экспедиция, наконец, покинула Шахимардан и двинулась вверх, к перевалу Алай.
Не доезжая до места первой ночёвки, кишлака Ярдан, путешественники встретили интересное место – развалины бывшего здесь когда-то селения. По рассказам проводника, селение это, называемое Таджик кишлак, осело и внезапно рухнуло вниз вместе со всеми жителями. Много людей погибло.
Федченко с любопытством осмотрел пятиметровый обрыв.
“Очевидно, оседание произошло в результате размыва почвы водой, - понял он”.
Сразу за местом давней трагедии дорога вошла в Ярдан, расположенный под совершенно отвесной скалой розового цвета – Кзыл-Таг.
Переночевав двинулись дальше. Хорошая дорога за кишлаком закончилась, превратившись в труднопроходимую, каменистую, проложенную над рекой Аксу, текущей в узкой щели. Вскоре она и вовсе стала опасной, превратившись в узкий карниз, где едва проходила лошадь.
Юзбаши, сопровождавший экспедицию, советовал либо вернуться, либо, в крайнем случае, идти пешком.
Федченко, впоследствии, писал: “ Я не слезал с лошади, чтобы не показать, что я трушу. Но когда, круто спустившись, пришлось проезжать по узкому мостику, прилепленному к скале, и потом опять подниматься, я сошёл с лошади, не боясь уронить себя в глазах кокандцев, так как они это сделали раньше меня. Странное дело: пока сидишь на лошади, самые трудные места кажутся проходимыми; но когда сойдёшь, так и кажется, что тут ни за что не проехать”.

Горные дороги Памира
Погода внезапно испортилась; пошёл дождь, а затем и снег. По счастью показалось киргизское становище – несколько юрт и деревянная постройка. Киргизы встретили путешественников радушно и, чтобы накормить замёрзших путников, зарезали барана. “В первую очередь накорми гостя” – эта заповедь соблюдалась здесь неизменно.
На следующий день путь продолжили и через несколько часов достигли перевала.
Проводник, подъехав к Алексею сказал:
— Вот он, перевал, который вам так хотелось посмотреть. Дальше я вас не поведу, это невозможно: дороги Алаю, как видите, нет.
Федченко не ведал, что его просто обманули. До Алайской долины было всего десять километров, и проехать туда было возможно.
Скрепя сердце Алексей Павлович, поблагодарил проводника, и, решив, что ничего не поделаешь, решил вернуться.
Он всё-таки попадёт в Алайскую долину, через десять дней его мечта исполнится.
А пока путь лежал обратно в Шахимардан.
Часть 10. Алайский тупик
Возвратившись в Шахимардан, тут же принялись собираться в новый поход, и, уже на следующее утро, отправились в путь.
При выезде из селения экспедиция встретила толпу странных людей в пёстрых халатах и остроконечных шапках. Это были странствующие дервиши, “дивана”, которые пели напутственные молитвы, желая путешественникам доброго пути.
При выезде из селения экспедиция встретила толпу странных людей в пёстрых халатах и остроконечных шапках. Это были странствующие дервиши, “дивана”, которые пели напутственные молитвы, желая путешественникам доброго пути.

Дервиши
14 июля добрались до Уч-Кургана, отсюда предстоял последний бросок в Алайскую долину. В Уч-Кургане жил изгнанный правитель Каратегина Музафар Ша. Алексей и Ольга непременно захотели с ним встретиться.
Музафар Ша, рослый 50-летний мужчина, с окладистой бородой, принял путешественников в саду раскинувшемся на крутом берегу реки Вахш (правый приток Амударьи).
На самом краю обрыва был выстроен домик с галереей и рядом комнат. Мужчин, опальный правитель принял в галерее, а Ольгу Александровну попросили пройти на женскую половину дома.
После непременных приветственных церемоний, Музаффар заявил Федченко, что является прямым потомком Александра Македонского.
Власть в Каратегине он потерял в результате сложных политических интриг.
В 1869 году, тайком от Коканда, в Бухару, проникло посольство Кашгара, которым тогда правил Бадаулет Якуб-бек. Сам Якуб - бек был когда-то подданным Кокандского хана. Сделав стремительную карьеру, он, в 1865 году, был отправлен ханом в Кашгар в качестве военного помощника, где вскоре узурпировал власть, став единоличным правителем этой провинции.

Бадаулин Якуб-бек. Рисунок из книги Н.Н.Веселовского, «Бадаулет Якуб-бек, Аталык Кашгарский»
Посольство, после завершения миссии, возвращалось обратно, остановившись по дороге в Каратегине.
Узнав об этом, кокандский хан, считавший, что его подданным не следует сноситься с другими правителями без его ведома, приказал каратегинскому беку схватить послов и отправить их под конвоем в Коканд. Музаффар решил схитрить. Не желая ссориться ни с правителем Кашгара, ни со своим сюзереном, он, дав посольству возможность скрыться, сделал вид, что выполняет волю хана и отдал приказ задержать кашгарцев. Заподозрив своего вассала в попытке его обмануть, хан отстранил того от управления областью, повелев поселиться в Уч-Кургане.
Алексей стал расспрашивать Музаффара о Каратегине. Ответ был весьма образный.
Ударив себя в грудь тот воскликнул – вот Каратегин. Затем указал на руку – это Матча, левая рука – Дарваз, ноги – Гиссар и Куляб, а голова это Коканд.
Немало интересного узнал от собеседника Федченко и о цели своего путешествия.
Правда Музаффар никак не мог понять, почему того так интересует Памир.
- Зачем вам это дурное место? - наконец, устав от расспросов, спросил он Алексея.
Визит затянулся, и хозяин намекнул, что ему нужно совершать вечерний намаз. Федченко раскланялся, вручив Музафару подарок – серебряные часы.
На следующий день в Уч-Курган прибыли кокандские джигиты для усиления конвоя во главе с новым начальником Мирзо Ядгаром, сменившим караул – беги.
Выехав из селения путники, беспрестанно поднимаясь в горы, вдоль русла реки, уже к вечеру добрались до пограничного караула. Здесь находилось несколько джигитов, которые следили за проезжающими. Алексею не терпелось отправиться дальше, но пограничники уговорили его остаться, за что он впоследствии был им благодарен. Через час разразилась сильнейшая гроза с сильным ветром.
Палатку, где находились супруги, чуть не снесло, Алексей едва успел схватить барометр и передать его жене. Переводчику Нурекину повезло меньше. Его палатку сорвало порывом ветра. Путешественники промокли и продрогли до костей. К утру распогодилось и, несмотря на бессонную ночь, путешественники двинулись дальше.
Дорога становилась всё хуже и хуже. Узкой лентой она перебегала с одного берега реки на другой по хлипким мостикам, на которые даже смотреть было страшно. В одном месте вьючная лошадь, споткнувшись, свалилась в воду. По счастью река в этом месте была неглубокой и лошадь удалось спасти. Плохая дорога продолжалась на протяжении суток. Из-за этого не удалось вовремя достичь кишлака Исфайрам, и пришлось заночевать там, где застала путников ночь. Утром к путешественникам приехали киргизы из аула, где предполагалась ночёвка – он оказался совсем близко – и привезли еды. Это было весьма своевременно, ночь была холодной и путники продрогли в палатках, которые к утру покрылись инеем. Подкрепившись, двинулись дальше. Миновав кишлак Лангар, поднялись на перевал и застыли зачарованные открывшейся панорамой. Величественный горный хребет, покрытый снеговой шапкой, высился на расстоянии примерно 40 километров. Внизу расстилалась обширная долина, но что было за ней, никто не знал даже понаслышке. Абсолютно неизведанная земля, “terra incognita”, куда всеми своими помыслами стремился Алексей.

Федченко на Памире. Рисунок из научно популярной брошюры о знаменитых путешественниках 1953г.
Дорога вниз была настолько удобной, что по пути делали остановки для сбора растений. Спустившись вниз стали лагерем на берегу реки Кизил-Су, притока Аму-Дарьи.
Довольно широкая река, не спеша катила свои воды. На западе виднелись невысокие горы. У самого подножия была выстроена небольшая крепость, в которой жил Исмаил токсаба (полковник), от которого зависело дальнейшее продвижение экспедиции.
Алексей рассчитывал отсюда совершить несколько экскурсий по Кизил-Су и в соседние ущелья. Однако кокандцы, успевшие снестись с токсабой, сообщили, что от этих планов Федченко придётся отказаться.
- Каратегинцы относятся неприязненно к вам, - уверял Алексея Мирза Ядгар, - да и алайские киргизы ненадёжны. К тому же мы уже в Алае, куда вы хотели попасть, зачем ехать дальше?
На следующий день приехал сам токсаба и подтвердил, что ехать дальше опасно, а потому невозможно.
“Я тогда ещё не предполагал, - напишет позже Федченко, что эти горы сделаются для меня действительно стеной, за которою я ничего не увижу. Я спешил вниз, чтобы проникнуть в эти горы и мечтал, что дойду до тех мест, где фантазия туземцев помещает “крышу мира”. Увы, не подозревал я, что велением киргизского полковника мне суждено будет ограничиться созерцанием только края “крыши мира”. Без грусти не могу вспомнить о тех разочарованиях, которые пришлось мне испытать в Алае”.
Кокандцы стали усиленно уговаривать Федченко побыстрее ехать обратно, уверяя его, что каратегинцы уже узнали о прибытии русских путешественников и могут неожиданно напасть.
- Пусть нагрянут, - невозмутимо ответил Алексей, - мы сможем дать отпор.
Исследователю необходимо было задержаться, чтобы Ольга закончила зарисовки местности.

Через несколько часов к путешественникам явились посланцы от токсабы, с приглашением посетить крепость и переночевать там, ввиду опасности нападения каратегинцев. Ольга Александровна, к тому времени как раз закончила рисунки, и супруги отправились в гости к хозяину Алая.
Исмаил-токсаба, полный жизнерадостный человек, лет сорока, управлял киргизами, постоянно кочевавшими по Алаю. Однако не все алайские киргизы были подвластны кокандскому хану. Над верхней частью Алая властвовала Курманджан-датка, “Алайская царица”. Как ни покажется странным подобное явление, учитывая закрытость женщин в мусульманском мире, далеко не единственное. Известный русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский повстречал во время своих странствий другую царственную женщину-мусульманку – Ваншу, правительницу уйгуров.
Курманджан была женой Алимбека, управлявшего племенами алайских киргизов и имевшего звание датки, то есть правителя. Алимбек, постоянно конфликтоваший с кокандцами, в одной из стычек был убит, и вдова заняла место погибшего мужа. Когда кокандский хан Худояр провозгласил алайских киргизов своими подданными и попытался обложить их налогами, Курманджан не только воспротивилась этому, но, опираясь на своё десятитысячное войско, сумела заставить Худояра отказаться от обложения кочевников податями, признать её в качестве нового правителя Алая, и присвоить ей почётный титул «датка». И произошло неслыханное. Впервые на всём мусульманском Востоке женщина была признана властительницей, и в честь неё был устроен официальный приём в кокандском дворце. Позже и эмир Бухары признал “Алайскую царицу”. Федченко, впоследствии, в своих записках писал:
«Правительница Курманджан-датка пользуется огромным авторитетом, наши джигиты не говорили о ней иначе, как с великим уважением».

Алайская царица Курманджан-датка
Дальнейшая судьба этой незаурядной женщины сложилась драматически. В 1876 году русские войска вошли в Ферганскую долину, и Кокандское ханство стало частью Российской империи.
Однако, Курманджан восприняла это событие крайне негативно и вместе со своими шестью сыновьями возглавила сопротивление русским войскам.
25 апреля 1876 года произошло первое крупное сражение между киргизами и русскими, которое окончилось победой русских войск. Курманджан со своими людьми отступила в долину Кок-Су, но вскоре была окружена и взята в плен. Учитывая огромный авторитет правительницы у алайских киргизов, князь Витгенштейн, со всеми положенными почестями, препроводил её в Маргелан, где находился штаб русской армии.
Там Датку принял первый военный губернатор Ферганы, генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. Российский военачальник, хорошо знал восточные обычаи, и обратился к ней со следующими словами: «О, мать стольких храбрых сыновей! Считай и меня своим сыном», чем весьма ей польстил. Затем, угостив сладостями, собственноручно надел на неё парчовый халат. Курманджан согласилась написать сыновьям письмо о прекращении сопротивления, но только взамен на обещание помилования для всех своих сторонников. Все условия были выполнены, и тогда Курманджан-датка официально объявила о присоединении земель алайских киргизов к Российской империи. Вскоре ей был пожалован чин полковника российской армии.
В дальнейшем Алайская царица неизменно занимала пророссийскую позицию, а во время памирских походов русской армии снабжала провиантом отряд полковника Михаила Ионова, с которым находилась в дружеских отношениях, и даже состояла с ним в переписке.
В 1881 году, по ходатайству туркестанского генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана, Курманджан-датке была назначена пенсия в размере 300 рублей в год. А в 1902 году в селение Мады, где проживала Курманджан, прибыл Ошский уездный начальник, полковник Василий Николаевич Зайцев и вручил ей личный подарок императора Николая II — золотые дамские часы с изображением государственного герба империи, украшенные бриллиантами и розами, с цепочкой и брошью.
Умерла Курманджан 2 февраля 1907 года, в возрасте 96 лет. А за полгода до её кончины через Алайскую долину проезжал российский путешественник и будущий президент Финляндии Карл Густав Эмиль Маннергейм. Он посетил юрту легендарной киргизской правительницы и оставил воспоминания об этом. В частности он писал, что был поражён, как просто Курманджан согласилась сфотографироваться верхом на лошади.

Курманджан-датка верхом на лошади. Фотография Карла Маннергейма
Но вернёмся к нашему путешественнику. Приняли путников в крепости весьма радушно, а на прощание токсаба подарил гостю годовалого яка, которого Алексей Павлович благополучно доставил в Ташкент живым.
На обратном пути Федченко проехал через Наманган, Чуст и далее, через перевал Кендырь, до Ташкента. В Андижане Федченко, снова встретился с ханом. Там же он заболел малярией и, вернувшись в Ташкент, ему пришлось пролежать в постели целый месяц. Лишь в октябре супруги вернулись в Москву.
Возвращался Алексей в полной уверенности, что в ближайшие годы он снова вернётся сюда, на «Крышу мира». Путь на Памир теперь ему был ясен.
Часть 11. Смерть на взлёте
В Ташкенте Федченко подвёл первые итоги экспедиции. Главным было составление наиболее полной по тому времени карты Ферганской котловины и прилегающих к ней местностей.
Несмотря на то, что составлялась она по глазомерной съемке, расспросам местных жителей и литературным источникам, это было огромным достижением в географии Туркестана.
Несмотря на то, что составлялась она по глазомерной съемке, расспросам местных жителей и литературным источникам, это было огромным достижением в географии Туркестана.

Карта маршрутов А.П. Федченко
Не менее ценны были ботанические и зоологические сборы и наблюдения, выполненные Алексеем Павловичем. После новых приобретений в его туркестанской коллекции было уже почти 20 тысяч экземпляров животных и насекомых, тысячи экземпляров растений.
Исследователем было установлено, что, несмотря на то, что животный мир и растительность Средней Азии имеют много общего с фауной и флорой Центральной Азии, Индии, Гималаев и средиземноморской области, вместе с тем многие среднеазиатские животные и растения нигде больше не встречаются.
Восхождение на перевал Алайского хребта ознаменовалось крупнейшим географическим открытием: за Алайской долиной с запада на восток вытянулся огромный хребет, покрытый вечными снегами и льдами. Федченко дал ему имя “Заалайский”.

Заалайский хребет, рис. Ольги Федченко
Это название сохранилось и поныне, в отличии, скажем, от названной также Алексеем, одной из высочайших вершин Памира, именем тогдашнего туркестанского генерал-губернатора Кауфмана. Пик Кауфмана в 1928 году был переименован в пик Ленина. Ныне он носит имя Абу Али ибн Сина.
На основание своих записок, которые он посылал в газету “Туркестанские ведомости”, Федченко, в Ташкенте, издаёт книгу о своём путешествии по кокандскому ханству. Спустя четыре года, уже после смерти автора, она выйдет в Петербурге и Москве.

Алексей искренне полюбил Туркестан, куда ему уже не суждено было вернуться. Полюбил его природу и жителей. Он был первым русским ученым, который предложил издать русско-узбекский словарь. Им была написана первая научная статья, переведенная на узбекский язык. Она была посвящена риште, червяку-паразиту.
По инициативе Федченко Туркестанский отдел Общества любителей естествознания организовал в Ташкенте чтение научно-популярных лекций на русском и узбекском языках.
В ноябре 1871 года супруги Федченко вернулись в Москву, где сразу занялись обработкой собранной коллекции. Ими, также, были прочитаны многочисленные доклады о своих исследованиях в Туркестане. В мае 1872 года на Всероссийской политехнической выставке в Москве супруги с большим успехом экспонировали свой раздел, посвящённый Туркестану, который вызвал огромный интерес научных и общественных кругов. Под руководством Федченко был составлен подробный каталог выставки с описанием природных условий и производительных сил Туркестана. И, наконец, выпущен трехтомный сборник «Русский Туркестан».
В сентябре 1872 года Алексей и Ольга выехали за границу, сначала во Францию, а затем в Лейпциг, где Алексею Павловичу предложили работу в лаборатории немецкого зоолога Рудольфа Лейкарта. Здесь он работает над переводом своего труда "Путешествие в Туркестан" на немецкий язык. В Лейпциге у супругов родился сын Борис. Лето 1873 года семья Федченко провела в Гейдельберге и в Люцерне, где Алексей продолжил микроскопические исследования, обработку книги "Кокандское ханство" и начал печатание двух первых выпусков "Путешествия в Туркестан".
Мысль о возвращении на Памир не покидала Алексея. Для подготовки к новой экспедиции на “Крышу мира”, он решает изучить опыт горных восхождений в Альпах.
31 августа 1873 года Федченко приезжает в деревню Шамони, что расположилась у подножия самой высокой вершины Европы, Монблана.
На свою беду, он зашел в небольшой музей местного жителя Пайо, натуралиста-любителя. Выслушав Алексея, Пайо посоветовал ему отправиться на один из ледников Монблана — глетчер Большая Мельница, — где, по его мнению, было не так опасно.
Алексей попросил Пайо найти ему опытного проводника и тот, решив подзаработать, рекомендовал ему своих братьев, несмотря на то, что у тех не было достаточного навыка для восхождения по сложным маршрутам.
И ещё одно обстоятельство сыграло роль в случившейся трагедии. Местным властям Шамони было отлично известно, что из-за изменчивой погоды, это время года опасно для восхождения на ледники. Однако путешественника об этом не предупредили.
15 сентября 1873 года, в пять часов утра Федченко, с проводниками, не имеющими необходимого опыта, отправился в горы. До двух часов дня погода была превосходной, и все шло хорошо. Русский исследователь с большим интересом изучал строение альпийского ледника, сравнивая его с открытым им ледником Щуровского.
Погода переменилась внезапно. Поднялся сильный ветер и начался снегопад. Идти становилось всё труднее. Решили повернуть обратно. Через три часа Алексей выбился из сил, однако продолжал идти. Ещё через два часа он, окончательно обессилев, опустился на снег и, обратившись к проводникам, сказал: “Я чувствую, что погиб. Оставьте меня здесь и спасайтесь сами”.
Вообще о случившемся мы знаем исключительно со слов французов. По их словам они сидели с Федченко до двух часов ночи, а затем решили вернуться в деревню за помощью.
Как только они спустились и рассказали о случившемся, тотчас несколько добровольцев отправились в горы и, через пять часов, отыскала Федченко, бесчувственно лежащего на снегу. Решив, почему-то, что Алексей мёртв, они, оставив его, вернулись в деревню. Лишь на третий день группа, состоящая из одиннадцати опытных проводников, отправилась к месту трагедии. Тело Федченко спустили вниз, но врача, по какой-то причине, не пригласили. В кармане куртки обнаружили паспорт, в котором значилось, что “Алексей Павлович Федченко, титулярный советник, командированный с ученой целью, отправляется за границу с супругой”.
Тут же дали знать жене погибшего, которая находилась с восьмимесячным сыном в Монтрё.
Возможно, если бы Ольга была рядом с мужем, трагедии не случилось. Но, как известно, история не признаёт сослагательного наклонения.
После трагической гибели мужа Ольга Александровна продолжила его дело, целиком посвятив себя научной деятельности, в первую очередь по обработке материалов их последней экспедиции. Она привлекла к работе над коллекциями и дневниками многих известных ученых. Благодаря ее энергии были напечатаны и увидели свет “Путешествия в Туркестан” - научные отчеты экспедиции в количестве более двух десятков выпусков. Ольга Александровна лично редактировала каждый выпуск этих трудов.
За перевод с английского языка работы шотландского учёного Генри Юля “Очерк географии и истории верховьев Аму-Дарьи», сделанный ею в 1873 году, Ольга Александровна получила серебряную медаль Русского Географического общества. Но особенно ей дорога была золотая медаль Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, которой она была удостоена за собранный ею в Туркестанских экспедициях гербарий и “Туркестанский альбом”.
В этом альбоме рисунков впервые была отображена своеобразная и величественная природа Туркестана, исследованию которого Ольга Александровна Федченко отдала многие годы своей жизни.
В 1874 году Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии избрало Ольгу Федченко своим почетным членом. Московское общество испытателей природы также удостоило чести иметь в своих рядах эту замечательную женщину.
В знак внимания и уважения к научным трудам Ольги Александровны по исследованию Туркестана император Александр II прислал ей в подарок золотой браслет, украшенный рубинами и бриллиантами.
В 1895 году Ольге Александровне удалось осуществить свою давнюю мечту - создание ботанического сада, с целью сбора и акклиматизации южных и восточных растений в средней полосе России. После огромных усилий ботанический сад был создан в Тропарево, Можайского уезда Московской губернии, где Федченко проработала 25 лет. Сад этот был известен не только в России, но и во многих странах Европы и Америки. Несмотря на огромную занятость, Ольга Александровна не жалела ни душевных сил, ни времени для воспитания сына. Одна, без мужа, она сумела дать ему высшее образование: он окончил естественное отделение Московского университета. Унаследовав от родителей любовь к науке, Борис Алексеевич Федченко стал впоследствии профессором, крупным геоботаником, одним из лучших знатоков флоры Средней Азии.
Вместе с сыном она несколько раз побывала в Средней Азии и конечно же на Памире, у порога которого они с мужем когда-то остановились.
В 1897 году, спустя 25 лет, она вновь посетила Туркестан. А в 1901 году Ольга Александровна, которой к тому времени исполнилось уже 65 лет, вместе с сыном участвовала в Памирской экспедиции, в ходе которой ими был собран богатейший ботанический материал, на основе которого был подготовлен фундаментальный труд «Флора Памира».
О. А. Федченко
В 1906 году Федченко была избрана членом-корреспондентом Петербургской академии наук, став первой в России женщиной-ботаником, удостоенной этой высокой чести.
Знаменитый русский учёный и путешественник Иван Васильевич Мушкетов так писал об Ольге Александровне: «Деятельность этого талантливого исследователя поистине изумительна, в особенности, если учесть, что экспедиция А. П. Федченко состояла всего из него самого и его благородного товарища Ольги Александровны Федченко, которая с редким для женщин самоотвержением разделяла все труды и лишения своего мужа; она действительно оказала ему существенную услугу».
Умерла Ольга Александровна Федченко в 1921 году.
В надгробной речи академик Владимир Леонтьевич Комаров, в частности сказал:
“В Ольге Александровне мы чтили не только ученого, но и одну из тех славных русских женщин, которые прокладывали новые пути, выходя из узкой cферы домашних интересов на широкую дорогу общественного служения и вместе с тем работали над созданием той идейной самоотверженной русской интеллигенции, которою по справедливости гордится наша страна. Она не только являлась помощницей своему мужу в его ученой деятельности зоолога, собирая и консервируя вместе с ним насекомых, но взяла на себя самостоятельную задачу - ботанического сбора, который положил начало нашим знаниям о флоре Русского Туркестана и обеспечил Ольге Александровне мировую известность. Ради этих целей она мужественно переносила все тяжести путешествия столь необычного в то время для женщины...».
Через несколько лет после ее смерти, научные сотрудники Ленинградского Ботанического сада назвали одно из центрально-азиатских растений ее именем - Olgaea baldshuanica Iljin.
Славен путь, как учёного, и Бориса Алексеевича Федченко. После окончания университета в 1900 году, ему предложили работу в Императорском ботаническом саду, где вскоре он становится главным ботаником. В 1905 году защитил диссертацию на степень магистра ботаники.
По поручению Императорского Русского географического общества и Императорского ботанического сада Федченко был в Туркестане четыре раза: два раза на Тянь-Шане и два раза на Памире и в Шугнане. Результатами путешествий явились обширные коллекции растений и ряд географических наблюдений и открытий. Им были открыты свыше сотни новых ледников.

Б. А. Федченко
В советское время Борис Алексеевич до конца жизни проработал в Ботаническом институте Академии Наук СССР.
В 1936 году он был избран членом Линнеевского общества в Лондоне.
Скончался Борис Алексеевич 27 сентября 1947 года в Ленинграде.
Послесловие
"Ты спишь, но труды твои не будут забыты", написано на могильном камне, в далёком французском городке Шамони. И действительно, имя и дела Алексея Павловича Федченко навсегда вошли в историю великих географических открытий. Ему по праву принадлежит одно из первых мест в ряду исследователей Средней Азии. И потомки никогда не забывали об этом.
К 150-летнему юбилею со дня рождения А.П. Федченко, в 1994 году, был выпущен памятный многоцветной почтовый конверт с портретом путешественника на фоне карты с обозначением маршрутов экспедиции по Средней Азии.

Талантливым скульптором Евгенией Семёновной Ярош создан бюст Алексея Федченко – настоящее произведение искусства.

Жизнь Алексея Федченко была короткой и яркой, словно полёт метеорита. И я абсолютно уверен, - она была счастливой, потому что истинное счастье, по-моему, это возможность заниматься любимым делом вместе с любимым человеком.
Такой судьбе можно только позавидовать.